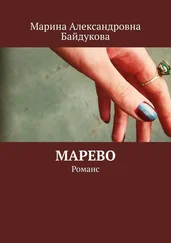В окне появляется испуганное лицо Корнуева:
— Товарищи, сейчас Еремеев Машотина пристрелил…
— Как! — подбежали к окну.
— Не знаю, что промеж них вышло… Только из конторы выскочил Машотин и бежать по улочке. «Помогите» — кричит. Сзади Еремеев с револьвером. Машотин на повороте споткнулся. Еремеев сзади подбег и в упор… Нет, уж как хотите, а надо ему сказать, что никакой возможности нет. А то бы город запросить? Ну, почто человека убил?.. Добро бы еще мужика, а то мальчонка совсем.
— Нет, — сухо говорит Вера, накидывая на плечи платок, — нельзя, Корнуев. Должна быть, дисциплина. Когда уляжется, я с ним поговорю… Даю вам слово. Я давно собираюсь.
Корнуев отходит от окна, сокрушенно махнув рукой:
— Ну, как хотите, собирайтесь хоть три года. А я все же съезжу, авось разузнаю…
И когда ночью в степь уходит бесконечно тяжелый поезд с углем и мешечниками, на одну из его площадок взбирается машинист с водокачки…
Тоня сбегала посмотреть. Вернувшись, долго навзрыд плакала. Очень жалко — такой молоденький. Вера очень расстроена. Даже говорит про себя. Увлекшись, не замечает, как пожимает плечами, подымает руки — подготовление к разговору…
В это время Салов уже лежит на кровати. На коврике перед ним стоит Клавдия Петровна:
— Зачем ты только сделал! И так тебя хают, только и слышишь: вон, власть, вон, какова, вон Еремеев… А ты…
— Молчи, и без того голова трещит. Спать буду, уйди…
Но Салову не спится, и генеральша его поит парным молоком.
— Ехать мне пора, вот что! Нельзя тянуть, еще схватят. У этого мужичья лапы цепкие.
— Возьми с собой.
— Куда?
— Все равно, с тобой бы…
— Э-эх, оставь, мать. Повидались — хорошо. Подработал — того ладней. Через два дня — айда, овидерзейн. Поднажму еще с ребятами. В Раменском еще не был. Ну, да ладно, спать…
На другой день у Зубко, что живут бок-о-бок с попом, гости: старшая дочь, проневестясь два года, сходит с рук. В маленькой комнатке много народа. Душно. Пахнет жженой бумагой от китайских фонариков — наследия усадьбы, повешенных посередине комнаты, то и дело загорающихся. На столе стоит блюдо с кусками вареной говядины, свинины и курицы. На полотенце груда кусков пирога, белого хлеба, рядом масло, сотовый мед и в широких горшках самогонка. Пока нет музыки, гости сидят вдоль стен. Музыка — лучший гармонист в местечке и Шильдер со своим кларнетом. При первом звуке — танцы. Собственно в течение всего вечера танцуют одно и то же. Барышень больше кавалеров.
За столом сидит Салов. Его потчуют из бутылки. Он пьян. Увидя Тоню, спрашивает:
— Кто ваш ухажор? Разрешите, им буду…
Тянется. Заиграла музыка, и Тоня смешивается с толпой танцующих. Протолкалась на улицу.
— Пьяный забудет. Не то припрется, ему все можно.
Посмотрев на звезды, вспомнила Василия — что он теперь? спит, верно… Ему горя мало. О ней и не думает…
Встряхнула косой. В комнату после ухода Веры хотели перебраться племянницы. Тоня не пустила. Даже поссорилась с попадьей. Долго Марфа Кирилловна сокрушалась:
— Такую тихую и то большевичка, проклятая, испортила!
На другой день после переезда Веры в усадьбу к агрономам, туда пришел Шильдер.
— Видите, для вас двенадцать верст отмахал!
— Спасибо, — смеется Вера, — а ваша служба?
— Сойдет. Теперь собственно и служить опасно — власть рядом.
— Какая власть? — сердится агроном, — разобраться, Шильдер, нужно. А то с ваших слов так и пойдет.
— Позвольте, Карпенко, — вмешивается учитель из Раменского, в очках, с остренькой вперед, рыженькой бородкой. Когда говорит, все поправляет очки и теребит бородку. Смотрит из-под очков и кажется себе на уме. На деле — простодушен, как телок.
Начался спор.
Шильдер сидит с Верой на террасе у большой облупившейся колонны. Долго шутил, потом неожиданно спросил:
— Вы в бога верите?
— Охота вам глупые вопросы задавать, — от обиды передергивает плечами Вера.
— А я, вот, да. Даже в церковь хожу. Очень люблю смотреть, когда исповедуются. Честное слово, завидую попам. Сколько через них материала проходит, самого чистейшего, из первых рук. Следовало бы печатать, иначе пропадает.
— Это попы с ихнем стилем, — смеется Вера.
— Я бы такую толстую книгу издал и назвал бы ее — «исповедное».
— Болтун вы, а еще немец. Немцы все дельцы.
— Немцем я всего по деду. Он у меня из саратовских колонистов. Прочее все русское.
Пауза.
— В церковь лишь чтобы позавидовать ходите?
— Нет. Я все стараюсь бога узнать. Каков он на деле. Ведь, собственно, добрым мы его для собственного успокоения сделали, т.-е. сами себя уверили, что начальство у нас великодушное… Между тем, Вера Алексеевна, и в природе и в нас самих зла чуть не больше остального: и болезни, и война, и ревность, и насилия всяческие. Родиться-то в мучениях — а результат смерть, новое мучение и себе, и близким. Разве жалостливое существо могло бы это устроить, а, если устроив, с этим мириться?!.. Да, в бога я верю, а какой он — не знаю. Возможно, злющий, и забота-то его вся лишь в уничтожении и муках бытия. Впрочем, это мысль не моя… Ведь и раньше был культ злых богов…
Читать дальше