После переезда в Москву в 1922 году Борис Шергин все более склоняется к литературному творчеству. Работая в Институте детского чтения Наркомпроса, он выпускает в 1924 году свою первую книгу «У Архангельского города, у корабельного пристанища». Книга эта была своего рода подступом к литературе, ибо писатель поместил в ней не собственные, а подлинно фольклорные тексты архангельских старин, да еще с нотацией мелодий. Эти тексты полностью отражали репертуар матери писателя, и по ним можно в полной мере судить и о репертуаре фольклорных выступлений самого Шергина, которые он проводил в Москве регулярно и с неизменным успехом. Вообще, книга эта произвела на ценителей народного искусства должное впечатление, ибо, помимо уникального материала, в ней помещенного, она была мастерски оформлена самим писателем в том самом знаменитом поморском стиле, знатоком которого он по праву считался.
А в 1930 году выходит, пожалуй, самая известная книга Бориса Шергина — «Шиш Московский». Эта книга заставила хохотать всю страну. Казалось, что вернулась та самая скоморошья культура, которая была в буквальном смысле истреблена еще в допетровские времена. «Шиш отроду голой, у его двор полой, скота не было, и запирать некого. Изба большая,- на первом венце порог, на втором — потолок, окна и двери буравчиком провернуты» [15] Шергин Б. В. Запечатленная слава. Поморские были и сказания. М., Советский писатель, 1967, с. 369.
,- вот такая неожиданная и веселая экспозиция, а далее остроумные сюжеты и сочный язык, который радовал, удивлял и опьянял. Московский городской житель уже тогда ощущал дефицит живого русского слова. Славе Шиша Московского помогало и то, что писатель стал рассказывать о его похождениях по московскому радио и аудиторией стала вся страна. Виртуозное владение исполнительской техникой сегодня вещь редкая, но в 20-30-е годы это было живой и плодотворной традицией в нашем искусстве. Достаточно вспомнить концерты О. Э. Озаровской, фольклористки и писательницы, автора знаменитой книги «Пятиречие», которую окрестили «русским Декамероном», или выступления другой современницы Бориса Шергина — фольклористки И. В. Карнауховой. Однако Шергин стал исполнителем не фольклорных произведений, как это делали его известные предшественницы, а собственных, авторских произведений, созданных в соответствии с канонами народной устно-поэтической речи. И в этом смысле его можно смело назвать прямым продолжателем литературной традиции замечательного русского писателя-рассказчика XIX века Н. Ф. Горбунова.
Книга «Шиш Московский» появилась в знаменательный период для развития советской литературы — в преддверии I съезда Союза писателей, и прямо соотносилась с известным призывом А. М. Горького к творческому осмыслению новой жизни. Борис Шергин был делегирован на первый писательский съезд от московской организации, он стал членом этого творческого союза с момента его основания. В 1936 году выходят его «Архангельские новеллы», где он раскрылся как тонкий психолог и бытописатель, а в 1939 году была издана книга «У песенных рек», где, как вспоминал сам писатель, половину материала «...представляют собою мысли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени» [16] Коваль Юрий. Веселье сердечное.- Новый мир, 1988, № 1, с. 158-159.
.
Нельзя сказать, что творческая судьба Шергина складывалась удачливо. Были у него и противники, из числа тех, кто считал фольклор чуждым духу новой жизни, чуть ли не реакционным явлением, были и недоброжелатели из числа фольклористов. Время, конечно, рассудило по справедливости. Но обидно, что подверглись уничижительной оценке книги подлинно «вершинные» в творчестве писателя. Речь идет о «Поморщине-корабельщине» и «Поморских былях и сказаниях», которые повествовали о русской истории языком чистым и простым, рассказывали талантливо и интересно.
Более десяти лет Борис Шергин «молчал», но когда в 1959 году вышла книга «Океан — море русское», а в 1967 году было осуществлено наиболее полное издание его произведений под названием «Запечатленная слава», стало очевидно, что все эти годы писатель работал как истинный труженик, что слово его так же правдиво и честно. Это трудно — оставаться самим собой, идти своей дорогой и свято помнить завет отца служить слову истинному. «Праздное слово сказать — все одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть...» Это из «Поклона сына отцу», небольшого произведения из обширного шергинского наследия. Еще раз удивимся человечным словам писателя, не устыдившегося искренности в наш, увы, слишком уж рассудочный век.
Читать дальше
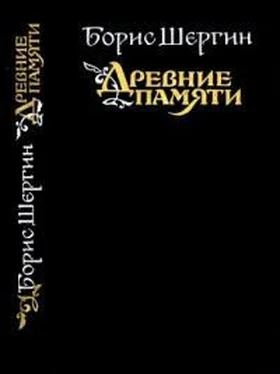

![Борис Шергин - Волшебное кольцо [Поморские сказки]](/books/394870/boris-shergin-volshebnoe-kolco-pomorskie-skazki-thumb.webp)