Как знать, быть может именно в этом кораблике оказался главный смысл творчества Б. Шергина,- ведь недаром он всегда был перед его глазами, даже когда «очи потухли», и писатель мог лишь диктовать свои произведения об удивительном крае далекой юности — Беломорье.
И действительно, русский Север — место особое, здесь ковалась экономическая мощь страны. Вспомним не только поморов и торговый Архангельск — единственный в допетровские времена незамерзающий русский порт, но и работящих олонецких «плавильщиков», творивших наравне с мастерами горнозаводского Урала тот самый металл, равного которому не было во всей Европе. Отсюда пошла опередившая свое время российская наука, из известных сегодня каждому Холмогор. Родине Михаила Васильевича Ломоносова, конечно, повезло. Но таких мест в России без числа, и если углубиться в историю, то узнаем, что и сам Архангельск до 1613 года назывался не как-нибудь, а Новохолмо-горами.
История края, а значит и всей России, прямо или косвенно отразилась в творчестве Бориса Шергина, и самое важное то, что она стала духовным наследием писателя, его нравственной школой, научила презирать национальное чванство и выше всего ценить дела рук своего народа.
Есть еще один важный момент, который формировал поморский характер. Речь идет об очагах высокой культуры, которые издавна существовали на русском Севере. Монастыри — хранители древнерусских письмен, скриптории [4] Скрипторий — мастерская рукописной книги в западноевропейских монастырях VI — XII вв.
, где в течение многих веков сберегалась и шлифовалась затейливая поморская вязь, да и последние пламенные слова протопопа Аввакума, прозвучавшие из этих суровых мест. И разве не продолжение этой традиции в том, что узоры поморской вязи нашли свое второе рождение благодаря филигранным письменам Шергина-калли-графа.
Впрочем, надо быть объективным: Архангельск времен детства и юности Бориса Шергина постепенно утрачивал многие черты былой патриархальности, все более вовлекаясь в круговерть экономического прогресса. И странное дело — новое как-то уживалось со старым: лапти и электричество, граммофоны и былинные речитативы замечательной Марии Дмитриевны Кривополеновой [5] Мария Дмитриевна Кривополенова (1843-1924) — русская сказительница, исполнявшая былины, скоморошины, сказы, песни.
. Так что к началу нынешнего века русский Север был в определенной степени местом уникальным. В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» так оценивал состояние Севера на рубеже столетий: «Не говоря уже об Азиатской России, мы имеем и в Европейской России такие окраины, которые — вследствие громадных расстояний и дурных путей сообщения — крайне еще слабо связаны в хозяйственном отношении с центральной Россией. Возьмем, напр., «дальний север» — губернию Архангельскую; необъятные пространства земли и природных богатств эксплуатируются еще в самой ничтожной степени» [6] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 596.
.
В эти годы капитализм на Севере России только разворачивался. Архангельские газеты начала века рисуют колоритную картину зарождающейся «промышленной лихорадки»: «В настоящее время одна из крупных шведских промышленных фирм ведет переговоры с правительством о продаже на реке Печоре леса на сруб...»; «Сим объявляется... что управлением государственным имуществом Архангельской губернии выданы германскому подданному Станиславу Францевичу Фон-Вышемирскому дозволительные свидетельства на разведки: в Печорском уезде Архангельской губернии каменного угля, медной руды, серного колчедана, железной руды, горючего сланца»; вышел в рейс к острову Шпицберген ледокол «Ермак»; заканчивается колонизация Кольского полуострова; «открыт телеграф от Кеми к Мурма-ну, по Мурману и в Усть-Цыльму» — вот далеко не полный перечень событий, будораживших некогда «сонную» Архангельскую губернию.
И вместе с этим — полная архаика быта, раскольники поморского толка с их религиозной непримиримостью, где даже обычный православный священник был вынужден выступать как миссионер. В книге «Печорская старина», посвященной описанию рукописей и архивов церквей Низовой Печоры, русский фольклорист Н. Е. Ончуков, пользуясь необычным для научного исследования стилем, так суммировал свои впечатления о русском Севере: «За редкость на Печоре телеги, ездят все больше верхом, а кладь возят на волокушах, и тут же, в этих бездорожных селах тянутся столбы телеграфа, проволока которого, как нервы, соединяет этот живой кусочек давно прошлой жизни с действительностью ХХ-го века, кипящего в остальной России» [7] Ончуков Н. Е. Печорская старина. СПб., 1906, с. 2.
.
Читать дальше
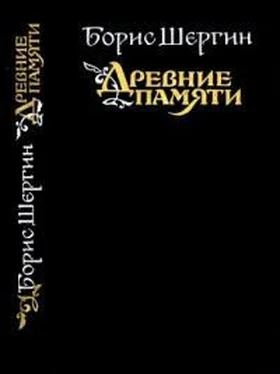

![Борис Шергин - Волшебное кольцо [Поморские сказки]](/books/394870/boris-shergin-volshebnoe-kolco-pomorskie-skazki-thumb.webp)