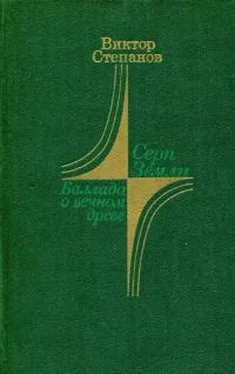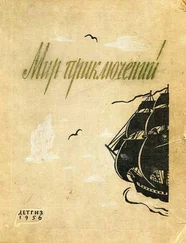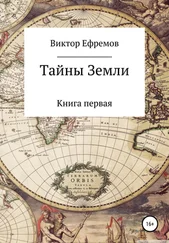— Мать Владика, Ольга Михайловна, — представил ее Николай Григорьевич.
— Прошу, пожалуйста, за стол, — грустно улыбнувшись, позвала Ольга Михайловна.
Стол был накрыт. И в том, каким радушием сияла скатерть и как щедро, по-родительски, наполнялись тарелки, я вновь ощутил расположение к гостю.
Ольга Михайловна поднесла платок к глазам и тут же быстро поднялась, ушла в другую комнату, сославшись на головную боль.
— Переживает, — сочувственно кивнув в ее сторону и словно бы винясь за жену, проговорил Николай Григорьевич. — А у нее уж и сил нет… Всю жизнь боится за него, за Владика. Боялась, когда он первый раз пошел на каток, когда вратарем стал в школьной команде. А когда в аэроклуб записался, сердчишко ее совсем схватило. Что уж теперь говорить…
Николай Григорьевич нахмурился, замолчал, но тут же справился с собой и, как бы подбадривая себя, махнул рукой:
— А, что говорить! Мать, она и есть мать… Вы кушайте, кушайте, будьте как дома…
Стесняясь блокнота, нелепо выглядевшего на праздничном столе, — задание редакции все-таки надо было выполнять — я начал задавать Николаю Григорьевичу вопросы, малоподходящие к мужскому застолью, но, как мне казалось, чрезвычайно важные для будущего очерка. Эта официальность, как я ни пытался ее замаскировать, сразу отодвинула от меня Николая Григорьевича и заметно его озадачила.
— Знаете что, — сказал он с укоризной, — давайте говорить просто так, по-человечески. В биографии Владика нет ничего такого… Честное слово. Просто был маленьким, а теперь вот вырос…
Но чем старательнее Николай Григорьевич уклонялся от ответа на прямые вопросы, чем сильнее старался сделать разговор непринужденным, тем больше находил он связующих звеньев в биографии сына и, словно бы удивляясь собственному открытию, начинал прислушиваться сам к себе.
— Как оно бывает? Попробуй подсмотри ее, сыновнюю мечту-то… Что такое рейсфедер и рейсшина, Владик узнал, можно сказать, раньше, чем научился говорить «мама» и «папа»… Выходит, тянул я его к своему конструкторскому делу. Да и мать опять же в конструкторском… Только она… — И он понизил голос, с опаской поглядел на дверь, за которой скрылась Ольга Михайловна. — Она хотела видеть его на земле. А я, выходит, пошел у него на поводу… Сначала разрешил в аэроклуб, а теперь вот…
Мне и в самом деле показалось неприличным держать на столе блокнот, я сунул его в карман и сразу как будто снял с себя неимоверную тяжесть. Да и Николай Григорьевич оживился, вспомнил, как учил Владика делать кораблики. Казалось бы, чего проще — выстругал корпус из доски, воткнул спичечные мачты, укрепил бумажные паруса. Все мальчишки переплывают однажды свое детство на таких фрегатах. А они с Владиком не так.
— Ты, говорю ему, сначала нарисуй то, что хочешь сделать… Вообрази… Не умеешь один — давай вместе. Хотя кто ж в его тогдашнем понятии конструктор?.. В войну мы с Ольгой Михайловной сутками не вылезали из цеха. Бывало, придешь домой, глянешь в зеркало — одни только глаза и остались. Ну а что до космоса, то, наверное, правильно все. Что такое взлет космического корабля? Это взлет конструкторской мысли. Разве не так?
И, словно впрямь спрашивая моего подтверждения не дававшим ему покоя мыслям, Николай Григорьевич смотрел на меня долгим, настойчивым взглядом.
— А вы знаете, — спросил он, доверительно наклоняясь ко мне, — вы знаете, какая у Владика любимая песня?
Когда иду я Подмосковьем,
Где пахнет мятою трава…
И тут же неожиданно вспомнил картофельное поле в Химках, на которое они в послевоенную осень ездили с Владиком, чтобы в копаной-перекопаной земле, в которой была перещупана каждая ботвинка, набрать хотя бы кулек картошки. Стояла такая же сухая, как бы в обнимку с летом, осень, хотя уже по зорькам морозцем прибеливало землю, и отец с сыном, перевыполнив «норму», позволили себе пороскошествовать: развели костер, бросили в золу несколько картофелин, а затем, обжигая почерневшие губы, с аппетитом их уплетали. Почему-то вспомнились по-мальчишески тонкие, измазанные землей и углем Владькины руки.
А потом память вернула в тот день, когда, тайком от матери приглашенный на Тушинский аэродром, Николай Григорьевич с недоверием глядел на неузнаваемого в пилотском шлеме сына, который вдруг как бы шутя порулил самолет на взлетную полосу и незаметно, так, что Николай Григорьевич и опомниться не успел, взмыл в чистое, роняющее серебряные паутинки небо. Была тоже осень, да… кажется, осень.
Читать дальше