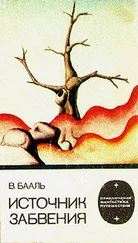—Да это ж без колдовства не делается, милая!
— Да ты посоветуй! Ему Наташка была нареченная, пускай к ней и возвращается.
— Кем же нареченная-то? Молвой, что ли? Сам-то не нарек, не слышно что-то было.
— Если я уеду?
— Следом поедет.
— Осрамлю себя. Взаправду осрамлю...
— Тоже согрешит, чтоб уравняться.
— Что ж мне, в прорубь, что ли, головой?!
— Тогда и его убьешь. Засохнет... Я ваше дело вижу.
— Как же мне быть, бабушка Марфа Матвеевна? — Она заплакала.
— Иди-ка сюда, Лина. Иди, дочка... Садись-ка вот тут... Послушай-ка, что тебе скажу я, старая дура...
Он быстро отступил от окна, быстро пошагал прочь. Также быстро, словно за ним гнались, он прошагал все Сотниково, потом через речку по висячему мосту, потом по своей деревне, к своему дому.
Мать стояла посреди комнаты, высокая, строгая, седоволосая, с ввалившимися щеками и сверкающим взором.
— Мама, — сказал он, — пойми меня, мама...
— Пока жива буду, Петя...
4
Зима пролетела незаметно, и Наташа заспешила с каникулами. Она ворвалась в избу Петра, и вместе с нею ворвался сверкающий, шумный город, радость, суета, смех, звон. Никогда она не была такой красивой.
И опять был праздник — съехавшиеся на каникулы студенты устроили веселую пирушку. И опять мать сидела где-то близко, сзади и тихонько подталкивала его своим шепотом:
— Что ж так сидишь-то... Твои же друзья-то все... Погулял бы, вместе все же учились... А на Наташку, ей-богу, Петя, насмотреться не могу — да за нее золотую гору не жалко...
И в самый разгар, когда все уже ошалели от вина, песен и плясок, Наташа схватила его за руку и потащила вон из избы, а потом бежала, летела по переулку за деревню и, оборачиваясь на бегу, восторженным, безумным голосом выкрикивала, приказывала:
— Лови!.. Лови меня!.. Ну, лови же!..
А на берегу упала в траву, притянула его к себе, впилась блестящими глазами и, уже не сопротивляясь разгульному дурману в себе, затвердила, как заклинание:
— Я твоя... твоя... твоя...
— Нет, — сказал он, с силой отрываясь от нее. — Нет, Наташа... не моя…
— Твоя! — настойчиво повторяла она, стараясь освободить свои руки, прижатые им к земле. — Твоя!
— Нет...
И тогда она поняла, отвернулась, зарылась лицом в траву, затряслась...
— Петя-а!.. Петя!.. Неужели...
— Да...
Потом они долго, сидя на берегу рядом, молчали.
— Может быть, — сказала она наконец, — ты все же мог бы заставить себя уехать. Хоть теперь-то. Не для меня, а для себя. Учиться. Она подождет. Может быть, тебя бы хватило на это...
— Не надо, Наташа...
— У меня последний курс... Я бы смогла потом помогать, нашла бы жилье... Просто так... по-дружески...
— Нет.
— Неужели у тебя для того талант и для того ты закончил десятилетку, чтобы бригадирствовать тут над столярами и плотниками.
— Наверно.
— Петя, — проговорила она слабо и опять зарыдала. — Пиши хоть письма, как писал. Хорошо?
— Хорошо.
5
Осенью мать сдалась, и сыграли свадьбу. Это была строгая и негромкая свадьба; в самом воздухе, кажется, все время копилось какое-то напряжение, какая-то тягостная неуютность — песни пели сдержанно, не поднимая голосов, плясали как бы принужденно, неловко; худое лицо матери вытянулось и было серым — она ходила, как тень; невеста сидела без венка, как и положено вдовам. И только сам Петр ничего, кроме Лины, не видел — счастье туманило ему глаза.
Когда все закончилось, мать пришла в комнату к молодым и сказала, не глядя на невестку:
— Простите меня, дети, — я своему сердцу не господин. Как и вы сами. Дай бог счастья. А жить с вами не могу. Так что ты, Петруша, построй мне другую избу, отдельную... Где-нибудь тут, неподалеку...
И Петр построил — рядом, и мать попросила отгородить забором.
Жизнь его пошла теперь так, что казалась одной непрерывной песней. Разговоры на деревне постепенно затихли, старела и смирела мать, привыкала и успокаивалась Лина. Он теперь очень спешил с работы домой — ему хотелось поскорей увидеть Лину, обнять ее, повторить в сотый раз, что он счастлив, что ничего ему больше не надо от жизни, что резьба — баловство, детская затея, ну разве что от великой скуки: ведь веранда, скажем, не перестанет быть верандой и служить свою службу, если вместо резной стенки, поставить обыкновенную, гладкую.
Матери он избу разукрасил с большим старанием и терпением, не пожалев ни сил, ни времени, вся она была в тонких кружевах, как картинка. Но после этого он не делал больше почти ничего, — напрасно просили его земляки; и даже если он соглашался что-нибудь сделать, то с большой неохотой, тянул, приступал от случая к случаю, работал небрежно, без интереса, не задумываясь над узором, как прежде, то и дело чему-то дурашливо усмехаясь, и скоро бросал, и работа простаивала месяцами.
Читать дальше