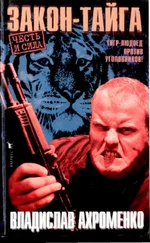Восторженных стихов сюда почти не присылали, рукописи носили редко, и темы обращений отстояли далеко от поэзии, не желая приближаться к одной в девяноста девяти случаях из ста, но было в коноваловском восприятии их нечто важнее поэзии и даже, как он находил, красивее и значительнее. Искреннее беспокойство за жизнь, желание видеть ее чистой и справедливой, собственная причастность буквально ко всему — это возвышало его в собственных глазах. Коновалову не казался необыкновенным государственный масштаб мышления во многих письмах. Он воспринимал их как должное. И людская обеспокоенность за то, чтобы у нас везде и всюду было хорошо, и гнев и боль за любую нерадивость, и те умные предложения, сообразительности которых он поражался, — все это всегда находило в душе Коновалова некий горделивый, тщательно скрываемый от других отклик, который помогал ему быстро настроить на те или иные д е л а все необходимое, и в их решении Коновалов считался очень удачливым, хотя ни грамма удачливости во всем этом никогда или почти никогда не было, просто всегда были честное желание и бескорыстный интерес, но никогда — той холодной, старательной добросовестности, которая способна страшнее головотяпства угробить любое дело.
А с иностранным языком Коновалов был не в ладах всю жизнь. В сельской школе когда-то учили его немецкому, перебрались родители в город, угораздило на французский, потом переехали в другой город, там почему-то изучали испанский и английский, в училище, а потом на заочном отделении в университете и в Академии общественных наук он с трудом балансировал между твердым, добросовестным «удовлетворительно» и редкоустойчивым «хорошо».
Вот Женька Марьин и его Люда, они и «шпрехают» и «спикают». У Женьки упорства хоть отбавляй, английский стал его такой же привычкой, как изнурительная утренняя зарядка, а Люда иняз заканчивала, ей сам бог велел. Даже его, Коновалова, драгоценная Лидия Викторовна, и та в английском не промах, потому что дружит с Алей Ивановой, а у той дружба что служба — требует многого и от себя, и от подруги, слабостей не прощает, всем прочим недостаткам тоже спуску не дает, в юбке, но все замашки, говоря словами нынешних социологов, неформального лидера коллектива.
Но Алю не станет он упрашивать, и жену тоже, а Марьин в отъезде, тогда лучше уж Михаила спросить — хотя не выйдет: у них, кажется, в школе испанский преподают, а в испанском он и сам «силен».
III
Перебрал на память всех знакомых «полиглотов», пролистал блокнот с адресами и телефонами, увидел недавнюю запись: телефон Лаврентия Бинды — тот заходил дня три назад, как всегда якобы случайно. Он полжизни все случайно да случайно сталкивается с Биндой, никакой особой дружбы между ними никогда не было и доверительного приятельства тоже, хотя здоровались они по обыкновению один с другим за руку. Одно время Бинда вознесся высоко, куда выше зама по науке у профессора Иванова, и память у него на знакомые лица будто закоченела — на приветствия в лучшем случае отвечал снисходительно — панибратским кивком, чаще всего издали, давая понять, что этого вполне достаточно. Коновалов стал видеть его в третьих, а то и во вторых рядах президиумов разных собраний, заседаний и совещаний, а то на групповых газетных снимках, где Бинда с нежностью льнул поближе к центру кадра. Держался Бинда намного увереннее, но потом, видимо, прознав, что Коновалов тоже не засиделся на старых местах, возвернул к себе прежнюю простоту и доступность в общении. Встречая в местах избранных или общедоступных Коновалова, он непременно называл его на «ты», вернее хотел так называть, силился вспомнить какую-нибудь связывающую их вместе легкую историйку, чтобы покровительственно посмеяться для настроения, но историйки не находилось и, разумеется, не могло найтись. Тогда Бинда удовлетворялся вполне традиционным «Как дела, старик?», не задерживая себя выслушать ответ Коновалова о том, к а к они, эти самые дела, поскольку эти дела Бинду, очевидно, интересовали не более, чем особенности конструкций нефтяных качалок или проблема жизни в гипердалеком созвездии Тау Кита.
И когда Бинда был волею судеб замом по науке у профессора Иванова, эта демократичность помогла ни к чему не обязывающей легкости их общений точно так же, как помогала она потом, когда Бинда перестал быть замом. Он ушел от Иванова без шума и треска, кажется, сверхстарательный Корнеев занимался его д е л о м. Корнеев по с и г н а л у самого же Бинды даже был на операции в клинике у Иванова. Об этой операции на следующий же день заговорила половина города — кто осудительно, но большинство с одобрением, понимая, что Петр Николаевич Иванов тогда права не имел мешкать. Бинда, к его чести, не стал сочинять никаких «телег» на почтенного профессора и его сына, обнаружив, что на новом общественном поприще, да еще и при могущественной поддержке старшего братца, ему будет, как никогда прежде, не хуже, а лучше, причем лучше намного.
Читать дальше
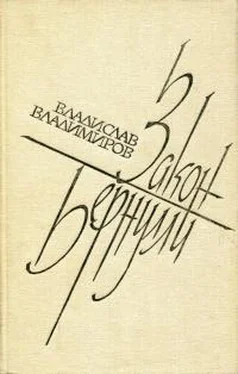

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)