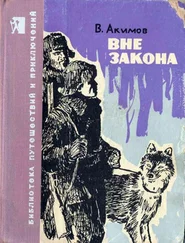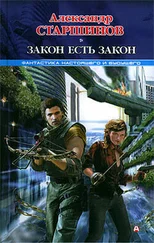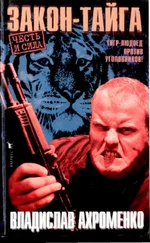И все же не мог представить он сына маленьким, сереньким Ионычем, нужным другим, в сущности, постольку-поскольку. Сын и не подозревал о существовании второго человека. Инна иногда догадывалась, но виду старалась не подать, и тогда он безжалостно наваливался на этого двойника, но у напарника было несколько жизней, он умирал и воскресал, обессиленный, снова, но воскресал-таки почти неистребимо, пытаясь договориться с ним на джентльменских началах, и кое в чем он ему вынужден был поддаться незаметно от Инны, но не от себя.
Он замечал, например, за собой, что иногда помимо желания заставлял себя улыбаться человеку, которому прежде никогда и ни при каких обстоятельствах не симпатизировал, а тут уже через минуту сам верил, что очень уважает этого человека, и улыбка получалась естественной и правдоподобной до настоящности, особенно если речь заходила о его сыне.
Он даже оправдание придумал такой модели поведения, подсказанной неумирающим двойником: вообще без э т о г о искусства нельзя работать с людьми, ему, этому искусству, надо научиться, надо уметь управлять своими чувствами и не быть их рабом, не давать им проявляться ни на лице, ни в слове, ни в жесте. Человек, даже самый антипатичный лично тебе, может другим принести пользу гораздо большую, чем ты сам, а посему спеши всем видом выказать ему свое благорасположение, тем паче если он объективен и по-хорошему работоспособен.
Так тщился уговорить он себя, подаваясь в союзники к двойнику, и уговаривал было, но до той самой поры, когда наступал момент действовать, и его самодеятельно выращиваемый маккиавелизм разлетался вдребезги при первом же столкновении о тем или иным неприятным ему оппонентом — льстецом, дароносцем или ходатаем за ближнего — лицедейским замашкам он таки бездарно не научился, прослыв среди более уклончивых, гибких и проницательных коллег-политиков почти неисправимым о р т о д о к с о м, с которым по части нравственной, да и профессиональной, вести дела в их современном истолковании весьма не благодарно, а то и просто опасно — раз, не без брезгливости вцепившись ради высшего принципа в одного из таких взяточников-ходатаев, дабы неповадно другим было, он довел д е л о до исключения ходатая из партии, поразив многих сверхпринципиальной настырностью и мертвой хваткой, ибо ходатай оказался не из серых воробышков, а гусем посолиднее.
Отцову, как говорил сын, з д о р о в о м у самолюбию такое отношение к себе импонировало, равно как и такое же отношение других к Косте, к своему Косте — кто бы этим другим ни был — и Аля тоже. Ее он понимал и даже не осудил, невзначай узнав нечто большее, чем просто болтовня в пилотской на пути из Минвод, об этом незнакомом ему летчике «дяде Галиме» и о ней самой.
Казалось бы, знал он все настроения: и ее, и сына, все, какие только могли быть. Они ему тоже импонировали, эти настроения. И Аля, и сын были глубоко убеждены в том, что каждый должен быть на своем месте, если не асом, то, во всяком случае, не блеклой посредственностью, работать талантливо и увлеченно, не снижая набранной высоты, — так, как это выходит, например у хлеборобов Гиталова, Довжика и Демеева, у академиков Ремесло, Александрова и Мальцева, у строителя Злобина, председателя колхоза Головацкого, ткачихи Кочетовой, сталевара Проскурина, балетмейстера Аюханова и художника Квачко. Кем бы ты ни был, ты и без честолюбивого прицела вознестись на полку «ЖЗЛ» должен и можешь быть человеком, а быть им возможно только через свое доброе и небездумное отношение к труду, к людям и Родине, а все остальное, в конце концов, лишь дополняет главное и служит ему. Но нельзя быть добрым и хорошим для всех.
Аля, и Костя, и сам он презирали умных болтунов, которые пространно рассуждают о деятельности, а сами не умеют делать ничего, но воображают себя пророками и подлинными людьми. Не будучи прагматиками, и Аля, и Костя все же выше красного словца и слова ставили примат дела, организованного несуетливо и основательно, самым разумным, самым компетентным образом. Вот почему ни Аля, ни сын не признавали никакого героизма в том, что, положим, где-то кто-то денно и нощно, при лютых ветрах в морозах, монтирует домну, чтобы поскорее сдать важный объект — а его, этот объект, можно было бы вполне закончить при умелой организации работ еще теплой осенью. Деликатно запамятовав о последнем, газеты громко восторгаются темпами работ и самоотверженностью монтажников, славят их мужество и настойчивость. Ну, а если признаться по-честному: какой же это, к дьяволу, героизм? Это же — неизбежная расплата, ценой лишений, сверхнужного напряжения механизмов и мускулов, расплата за чьи-то конкретные грехи, нерасторопность и головотяпство, иными словами, расплата за то, что в большом партийном документе было прямо названо р а з г и л ь д я й с т в о м. А разгильдяйству, случайному или намеренному, оправданий нет и быть не может никогда и ни в чем. Можно написать в газете о пионере, который случайно увидел выпавший узел крепления и спас громадный экскаватор, но почему теперь, когда на стрелочников уже давно не валят, надо молчать о тех разгильдяях, по чьей вине произошла эта, если вдуматься, не так уж и случайная случайность?
Читать дальше
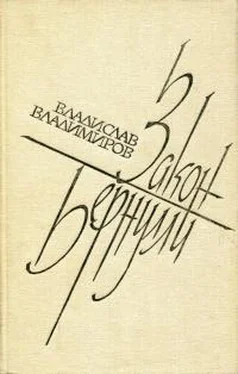
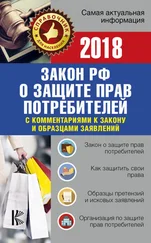
![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)