— Не боитесь? — спросил Чардынцев Тоню. — До Волги добрых четыре километра. — С обеих сторон уходили в темноту бескрайные луга.
— С вами не страшно, — пошутила Тоня. — Вы ведь храбрый?
— Смотря по обстоятельствам, — ответил Чардынцев. — С вами мне иногда бывает страшновато.
— Почему же?
— Я и сам не знаю. И хорошо, и… страшно. Так в детстве я чувствовал себя на качелях. Душа поет, когда летишь в самое небо, и вместе оторопь берет: а вдруг оборвется веревка!
— А вдруг оборвется веревка… — усмехнулась Тоня.
Они вышли на взгорье. Вдали искрилась золотая строчка огней пристани… А справа, будто рассыпал кто диковинные цветы, плыли зеленые и оранжевые огоньки.
— Это идут караваны судов вниз, к Сталинграду, — пояснил Чардынцев. — Последние, должно быть…
— Скоро Волга станет, — задумчиво проговорила Тоня. — Закуют ее лютые морозы, засыпят ее злые метели снегом.
Мне всегда в это время года жаль Волгу. Жаль ее величавой красоты.
— Это только видимость, только внешнее — мертвая недвижность Волги. Глубоко, под голубой толщей льда она перекатывает свои волны, собирает тепло нижних слоев земли. Взгляните зимой, как парит прорубь, и вы почувствуете горячую, живую силу реки. — Чардынцев помолчал, потом продолжал, не замечая сам, как крепко сжимал он руку Тони. — Так иногда и с человеком бывает. Внешне — лед, зима, пусто засыпанные снегом цветы юности, а глубоко, очень глубоко — жаркая, неутихающая волна, и беда, если кто-нибудь по неосторожности растопит в нем прорубь…
— Почему беда? — спросила она, жадно вслушиваясь в его голос.
— Запоздалая весна бывает бурной, — ответил он и замолчал.
Лицо Тони пылало, будто она приблизила его к огню. Она долго боролась с собой, потом спросила:
— Алексей Степанович… Простите мое любопытство… Я знаю вас… теперешним… очень хорошо знаю! Но… мне хотелось бы услышать о всей вашей жизни…
— Рассказать о своей жизни… Это не легко.
— Нет, расскажите, — уже настойчивей и спокойней попросила Тоня.
— Детство и юность пронеслись, как плот по быстрой порожистой реке: трудно, опасно, но зато много солнца и свежего ветра. Я пас у богатея коней, помогал отцу вязать плоты, ел одну картошку, да и ту прокисшую, иногда мать баловала щами, а отец больно ударял ложкой по лбу за то, что при еде нарушал очередность и вылавливал редкую капустную окрошку.
После революции отец учил меня воевать, как некогда учил плавать: бросал в самую глубь. Потом я стал кадровым военным.
Чардынцев помолчал, и Тоня одним лишь чутьем угадала, что в нем боролось сейчас немало противоречивых чувств. Она не видела ни выражения его лица, ни усмешки, но зато в его голосе ей слышалось многое.
И вот это «понимание», это постоянное желание быть рядом, отгадывать и продолжать его мысли, недомолвки, улыбки, вместе слушать, как шумит в парусах жизни ветер, и вместе встречать удары волн, вероятно, и есть то, что люди с древности определяют одним словом — любовь.
— Вы скажете: «Чардынцеву уже за сорок, а он, сухарь, еще не женат», — продолжал Чардынцев. — Я был женат, Антонина Сергеевна. В двадцать лет я был уже женат. Жизнь мне казалась легкой, полной одной лишь музыки и веселья. И жена моя была именно такой: веселая, постоянно поющая и пляшущая девчонка. Где мне было тогда разглядеть ее!
Я верил ей больше, чем себе. Я любил ее. Говорят, ревность — тень любви, она неразлучна с ней. Не согласен. Большая любовь — это как солнце в зените: тени нет.
Повторяю, я верил ей, не внимая ни нашептываниям соседей, ни осторожным намекам знакомых.
Вернувшись с маневров, я застал на столе записку (совсем, как в старых романах!): «Лешенька, прости! Уехала с театром. Я принадлежу искусству. А с тобой мне скучно. Прости».
В ту пору в городе, где я служил, выступал театр оперетты. Позже я узнал, что она уехала с одним театральным жучком, который увлек ее длинными (и, вероятно, пошлыми!) рассуждениями об искусстве.
Я пережил тогда глубокое потрясение. С тех пор много событий произошло в моей жизни. Я окончил академию. Служил в Белоруссии и в Поволжье, командовал полком в Молдавии.
— Поеду домой, — бывало, скажет кто-нибудь из командиров, и я чувствовал, как в сердце бьет холод. А тебе куда ехать? У тебя ведь ни семьи, ни дома. Нельзя же назвать домом твою холостяцкую комнату — пустую, необжитую…
Я с головой уходил в работу, был энергичен и на людях весел, но один Сухов, близкий дружок мой, знал, как мне было тяжело.
Читать дальше
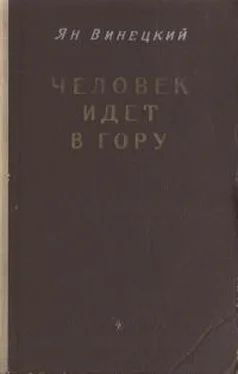






![Янка Мавр - Человек идет [Повести]](/books/407491/yanka-mavr-chelovek-idet-povesti-thumb.webp)
![Янка Мавр - Человек идет! [В дали времен. Т. VIII]](/books/408508/yanka-mavr-chelovek-idet-v-dali-vremen-t-viii-thumb.webp)
![Север Гансовский - Идет человек [Сборник научно-фантастических повестей и рассказов]](/books/427946/sever-gansovskij-idet-chelovek-sbornik-nauchno-thumb.webp)
