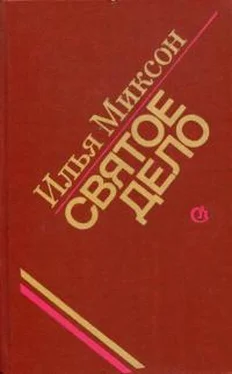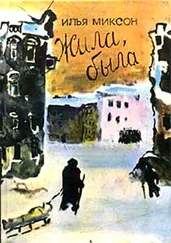Глядя на Екатерину Захаровну, Котин подумал, что нелегко, трудно живется ей и работается. Теперь, когда придут мужчины, она, конечно же, с облегчением уступит председательский стул и заживет спокойно, как до войны.
— Обойдемся неделей, товарищ Степанова? — деловито обратился к ней Токмач.
— С праздником, — тихо и очень мягко сказала она, и Большаков крякнул с досады на свою оплошность.
— С праздником, Екатерина.
И троекратно расцеловался с ней.
— Неделей не обойдемся, — отрубил Большаков. — Дай бог в полторы-две управиться при нашей технике.
Екатерина Захаровна согласно кивнула.
— Полторы недели как-то не принято, — смущенно сказал Токмач и поправил очки. — Но можно и полторы. Такой случай!
— Такой случай, — выдохнул Большаков и вдруг спросил: — Водка в сельмаге есть?
— Все изъято! — поспешил доложить Токмач, довольный своей предусмотрительностью. — Я распорядился. Но самогон… Может быть, дать распоряжение?..
— Дать! — почти крикнул Большаков. — Всю водку, вино, все, что есть на складах и в районных загашниках, развезти по селам. И все еще, что можно. Пусть народ выпьет. За победу, за победителей, за себя, за тех, кто не дожил. А это!.. — С треском захлопнул папку. — Это потом. Заслужили мы один день на такой праздник? Заслужили миллионы неживых один день на поминки? На всех — один!
Лицо Екатерины Захаровны сделалось по-бабьему грустным, губы мелко-мелко дрожали.
— У нее муж на войне остался, — глухо сказал, суя Токмачу папку. — Дай ей один день, не только ночь, день дай погоревать, порадоваться. Пошли!
…После митинга Большаков в окружении женщин двинулся по улице. Зашли в одну избу, во вторую, в третью. И все многочисленнее, шумливее и голосистее становилась счастливая свита. К женщинам примкнули ребята постарше, двое бывших вояк на костылях, безрукий в танкистском ребристом шлеме и еще гожие на работу и на выпивку старики. Вскоре мало было слов, взметнулась песня. Большаков пел со всеми сочным и гибким баритоном. Пел «Огонек», и «Землянку», и «Тонкую рябину», и «Синий платочек».
Котин тоже подпевал, захмелев от выпитого самогона. (Токмач, сославшись на дела, уехал давно к себе.) А Большакова ничего не брало. Впрочем, вначале, когда Котин еще был трезвым, он видел, что тот лишь из первой стопки отпил, а потом прихлебывал рассол. Нельзя Большакову пить вино, тем паче самогон.
В пятой или десятой избе — Котин потерял счет — Большаков, притянув его к себе за стриженую голову, сказал в самое ухо:
— Притормози, брат-солдат. Инструктор обкома все же.
И Котин тоже стал пить рассол, постепенно трезвея.
Уже под вечер Большаков вдруг схватился за грудь и стал крениться набок. Ему не дали упасть, отнесли на кровать. Котин побежал звонить, но что-то случилось со связью; удалось вызвать район, а оттуда Токмач сообщил в город.
Спустя часа два за развалюхой-фермой приземлился двукрылый самолетик с красными крестами на фюзеляже и плоскостях. Врач, прежде чем выслушать и осмотреть Большакова, сделал ему укол, один и второй. Очевидно, врач знал Павла Никитовича не только как второго секретаря обкома, но и как своего больного.
— Инфаркт? — спросил Котин.
— Нет. Осколок у него под сердцем. В госпитале извлечь не решились: слабый очень был. А потом все некогда. Теперь уж не отпущу.
— От такой нагрузки и трактор ломается, — невпопад, хмуро сказал Котин.
Носилки остановились у самолета.
— Держись, брат-солдат, — одними губами промолвил Большаков. — Война кончилась, бой продолжается…
Все отдалились от самолета. Пропеллер крутнулся несколько раз, разгоняясь, и превратился в сплошной ртутный круг. Покачивая крыльями, самолет побежал по полю и, легко оторвавшись от земли, понесся по наклонной ввысь.
Когда черная точка растворилась в майской синеве, Котин подошел к женщинам, что, сбившись в кучу, молча и горестно стояли поодаль, и сказал, совсем как Большаков:
— Пошли.
Антипов лежал на дне узкой одиночной щели и думал о превратностях солдатской жизни. Три месяца назад, день в день, восьмого мая праздновал в роскошном особняке Победу, прикидывал, когда будет дома, что из Берлина привезет сестренкам и матери, а сейчас вот зарылся кротом в монгольскую трудную землю, и неизвестно еще, сколько так мытариться… По ночам оружейная сталь покрывается тонкой кружевной изморозью, брови мохнатятся инеем и даже под шинелью и плащ-накидкой дрожь колотит, а днем опять пекло, от которого единственное спасение — щели. Уже к половине одиннадцатого все, кроме часового-наблюдателя, забиваются в них и натужно всасывают иссохшими легкими обманчиво-влажный на глубине воздух. И так, пока солнце не пойдет на закат. Обед в семнадцать тридцать, отбой за полночь, подъем чуть свет…
Читать дальше