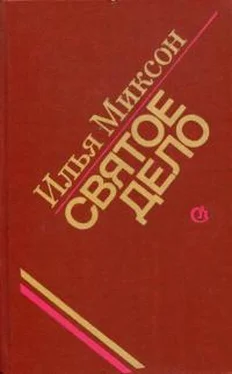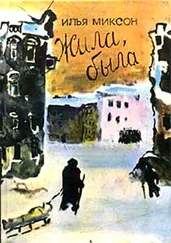— Воды…
Графин бился о край стакана, и вода плескалась на пол.
— Но-но, — с укоризной прошептал Большаков, и Котин переборол дрожь.
— Что с вами? Врача?
Большаков несколько раз трудно глотнул и откинулся на подушку.
— Не надо, пройдет, — сказал погодя. — Посплю минут… и пройдет. Подъем в шесть тридцать.
Закрыл глаза и сразу сонно задышал. Правая рука с широкой ладонью в светлых ворсинках стянула рубаху над сердцем.
То, что кончилась война, было для Котина еще непривычным и далеким, несмотря на всю долгожданность и предрешенность: после падения Берлина победу ждали со дня на день. И не с кем поговорить было: второй секретарь обкома Павел Никитович Большаков спал, смертельно замотанный, с мазутным пятнышком на небритой левой скуле.
Постепенно горестные складки на переносице распрямились, задышал ровно и глубоко. Котин осторожно отступил, зашнуровал свои мокасины, как в шутку именовал Большаков американские ботинки, и вышел на улицу.
Прямо по лужам бежала с подоткнутым подолом Дарья-повариха, простоволосая, без платка, красная, мокрая от пота и слез. Она барабанила в оконца, выкрикивала: «Мир! Мир!» — и летела дальше.
— Мир! Война кончилась! — крикнула, не останавливаясь, и Котину. Он чуть не бросился за ней, чтобы тоже стучать, кричать, нести людям выстраданную счастливую весть, но не мог оставить Большакова одного.
Из домов выскакивали женщины, старые и молодые, полуодетые ребятишки. Вскоре почти вся деревня собралась у сельсовета. Обнимались, плакали, целовались, ошалелые от счастья и надежд. А Котин, сияющий и молчаливый, сидел на крылечке и стерег покой Большакова.
Котин попытался представить, что творится в эти минуты на фронте. Вернее, уже не на фронте, а просто в Германии. Батальон шел вдоль южной границы, но после форсирования Одера дивизию или даже всю армию, вероятно, перебросили на берлинское направление. Котин передал батальон капитану Чернову. Бывает же такое несоответствие: рыжий, а фамилия — Чернов! Вот Большаков — во всем большой: ростом, душой…
Он взглянул на часы. «Рано еще…» Но будить не пришлось, сам поднялся раньше срока и появился на крыльце, высокий, плечистый, посвежевший лицом, но все еще бледный. Под глазами тяжело морщились отечные мешки.
От сельсовета доносился непрекращающийся гомон.
— Ждут, — не то спросил, не то отметил Большаков.
— Екатерина Захаровна приходила уже. Все ждут.
Большаков насупился.
— Почему не разбудил?
— Приказано в шесть тридцать.
— Приказано, — проворчал Большаков и сунул руку за портсигаром. Вспомнив, что пустой, досадливо крякнул. — Ладно, пошли.
— А товарищ Токмач? — Неловко было начинать в районе митинг без «хозяина».
— Ну, минут десять обождем, — подумав, наверное, о том же, что и Котин, согласился Большаков и вдруг напустился: — Что ты за солдат без табаку!
— Некурящий, Павел Никитович.
— Некурящий! И хорошо, а товарища угостить должен.
Котин сорвался с места.
— Сейчас добуду!
— Куда! — резко схватил его за руку Большаков. — Ты кто, ординарец? Ты, брат-солдат, инструктор областного комитета партии. — Отпустил, уже спокойнее добавил: — Нос, конечно, к небу задирать нечего, но и вокруг начальства ни к чему виться. Ясно?
— Ясно, Павел Никитович.
— Ну и хорошо, что ясно. А вот где нам табачком разживиться — все еще вопрос, а?
Котин промолчал.
— Пошли, — решительно сказал Большаков и шагнул с крыльца. В тот же миг из-за поворота вынырнул «виллис», и Токмач, наодеколоненный, выбритый, но серый после бессонной ночи, с красными глазами, закрытыми толстыми стеклами очков, вышел из машины. Одернув новый френч, раскрыл и подал папку из красного дерматина с облезлым тиснением «На доклад».
— Обращение. Ко всем колхозникам и рабочим области. От имени нашего района. Уверен, что весь народ подхватит с энтузиазмом. День ударной работы в честь Победы над немецко-фашистской Германией.
Большаков начал читать с интересом, но вдруг нахмурился, густые брови срослись, вздулись бугры над переносицей.
— Почин, говоришь?
— Почин, — менее торжественно подтвердил Токмач, внимательно следивший за выражением лица второго секретаря.
— Ударный день?
— Ударный, — эхом отозвался Токмач, чувствуя, что совершил что-то неладное, но еще не понимая что. — Может быть, неделю? — предложил осторожно.
Подошла Екатерина Захаровна. Она была в своем обычном и, вероятно, единственном потертом демисезонном пальто с разномастными пуговицами. Лишь платок на голове был другим, праздничным. Видать, только и успела, что платок из сундука выхватить. А лицо было необычно: тихое, потерянное; в голубых глазах, увлажненных невыплаканными слезами, мягко светилось счастье и горе одновременно.
Читать дальше