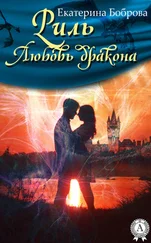А я и слушать не желаю.
— Вы, мамаша, меж нас не встревайте. Знаю, что делаю.
— Спасибо, сынок, на добром слове, но в таком разе и я уйду.
— Ваше дело, — говорю, — а мне жить не мешайте.
Ушли они, даже утра не дождались. А на улице вьюга, мороз. Стало мне не по себе, но тут же оправдываться поспешил.
Через несколько дней Зинаида переехала ко мне. О Христине да матери я даже и не поинтересовался — как они будут, куда пойдут.
Неделя, поди, прошла. Прихожу после работы домой — Зинаиды нет, печь не топлена, в хлеву корова голодная мычит.
Я по соседям, нет моей благоверной. Я в клуб, и там нет, не знаю, куда податься. Вернулся в избу, корову накормил, затопил печь, сварил картошки. Поужинал, жду.
В двенадцать часов является моя краля, веселая, щеки так и горят, а на кудрях снег растаял, будто роса. Скинула платок, шубейку на крюк — и плюх ко мне на колени. Сама смеется, волосы мои на палец накручивает да целует. Вся злость моя тут на нее прошла, только и молвил:
— Где была? Неужто сперва не могла корову накормить?
Зинаида в слезы:
— Тебе корова дороже жены! Уморить меня хочешь. Не для того замуж шла, чтоб навоз возить. Равноправие теперь. Ты ценить должен, что я за тебя пошла, а у меня даже платья хорошего нет. Уйду, завтра же уйду!
Испугался я, и не то что корову продать согласился — на другой день сам с соседкой договорился, чтоб она все нам делала.
С тех пор зажили мы, вроде бы, ничего. На деньги, что за корову получили, Зинаида где-то себе большое зеркало купила да ковер какой-то облезлый. Целые дни, бывало, сидит на нем либо книжки любовные читает, либо роль учит. А вечером кудри навьет, подфуфырится — ив клуб. Я серчал, да молчал — боялся, и в правду уйдет.
Как-то уж летом гляжу на моей супруге новое платье, видно, что дорогое и покрой городской. Знаю, нет у нас больших денег таких.
— У кого денег заняла, когда купила? — спрашиваю ее.
Она как расхохочется мне в лицо:
— Дурак ты, Тиша, не то бы у нас еще было, если бы умел ты своим положением пользоваться. Это мне Пыхтин подарил за то, что ты ему рекомендацию в комсомол давал.
Я тогда хоть и дураком был, а нутро мое честным, крестьянским осталось, и таких дел за мной не водилось. Рекомендацию Сашке я дал по простоте, за друга считал, не разглядел вовремя. Не стерпел я слов Зинаидиных и избил ее, а платье велел назад отдать.
Вечером уехал я на два дня в район. Неспокойно на душе, стыдно, что жену беременную избил. Зинаида уж пятый месяц дохаживала. Не вытерпел, вернулся домой на день раньше. Приехал ночью, перелез через забор, чтоб ее не будить. Гляжу, сквозь ставень свет пробивается.
«Не спит, — думаю, — небось, плачет, ждет меня, молода еще и родных никого нет». Так мне ее стало жалко, и будто кто меня к окну подтолкнул. Осторожно приоткрыл створку, взглянул и обомлел: на столе полное угощение, а рядом с Зинаидой сидит Сашка Пыхтин. Целуются. Смеются оба.
Такое во мне бешенство поднялось, увидел тут, какой я дурак, какую глупость сделал, выстрелил в окно и ушел в контору ночевать, там и жить остался. Жалел потом долго, что не попал в них. Вспомнил тут Христиньку да мать, а не знаю, где их искать: куда ушли, никто не знает. Как-то приехал в волость на собрание и встретил там из Огневского знакомого.
— Христина Кондратьевна у нас лесником работает. Мать твоя с ней живет, — говорит он мне.
— Как они там? — спросил, а у самого внутри так и жжет.
— Ничего, сын у нее родился.
— От кого? — от неожиданности сердце во мне остановилось.
— Не знаю. Большой уж, месяцев восьми.
Всю ночь я не спал, считал, высчитывал, выходит — мой ребенок. Не стало мне покоя ни днем, ни ночью: больно обидно, что Христина мне ничего не сказала. Мучился, мучился, не выдержал, пошел к ним. Сам знаешь, от Багаряка сюда десять верст, а и не заметил, как пробежал.
Подошел к сторожке, дверь отворена. Заглянул в избу — никого, только в зыбке мальчонка лежит, кулак сосет, гулькает чего-то по-своему. Бросился к нему, разглядываю: глаза у него темные, волосы светлые, из кольца в кольцо — ну, весь в меня! Такая у меня к ребенку нежность и любовь объявилась, хоть кричи. Хотел я его на руки взять, а он как заплачет. Наклонился я над ним, дыхнуть не смею, глупость свою проклинаю. Слышу, в сенцах ведро громыхнуло, обернулся — в дверях Христина стоит. Лицо белее снега, руками так вцепилась в косяк, что ногти побелели.
— Зачем пришел? Мамаши дома нет. — Голос глухой, а говорит спокойно.
Кинулся я к ней, прощенья прошу, а она словно каменная. Одни глаза живые, вижу по ним, что любит меня по-прежнему. Стоит она передо мной, как камышинка качается, такая родная, а недоступная. Прошу ее:
Читать дальше