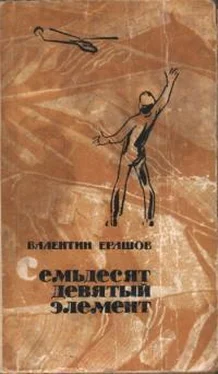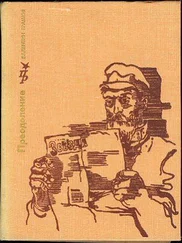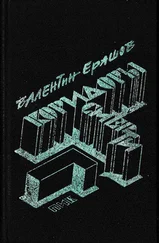Никуда я не поеду, все это сущая ерунда. Как работал я в экспедиции, так и буду работать, пока болезни не сшибут с ног. Ходить в замах — не по мне. Сидеть в конторах — тем более. А что касается Валентины — она давно смирилась со своим положением и не заикается ни о чем. Валентину меньше всего волнуют мои заботы и мои радости. То есть нет, волнуют, конечно — с точки зрения практической: если у меня плохое настроение, то и в доме невесело. Могу придраться по какому-нибудь пустяку. Сорвать злость. Кому ж это понравится. Ну конечно, Валентину интересует выполнение плана экспедицией — так сказать, в разрезе бытовом: получу я премию или нет. За ней водится и своего рода тщеславие: всегда беспокоится, что говорят обо мне люди. Если говорят плохо — Валентине это неприятно, ведь речь идет про ее мужа. Вдобавок она привыкла ко мне, — так привыкают к дому, к мебели, к собаке, черт подери. Отлучаюсь дня на три — ей пусто без меня, знаю. Возвращаюсь — все становится на место, заполняется пустота, будто привезли отданный в ремонт диван или шкаф. Такие вот дела, Перелыгин.
А мне иногда хочется — по-мальчишески хочется, — чтобы Валентина встретила меня у порога и поцеловала, — скажем, в лоб, на худой конец. Спросила не безразлично: как дела? Спросила бы иначе — уж не знаю, о чем и как... Женщины должны сами догадываться и уметь спрашивать так, чтобы захотелось рассказать не только про факты, но и про то, что лежит за фактами. И похвалила бы, коли я заслужил. Ругать, между прочим, ругают меня и без участия Валентины. А человеку надобно иногда, чтобы о нем сказали хорошее. Сказал кто-то близкий...
Это уже — лирика. И мальчишество. Трудно ждать от женщины после двадцати лет семейной жизни каких-то перемен. Что не сладилось вначале, того не поправишь, и надо мириться и молчать, не осложнять существование наивным выяснением отношений. Только вот бывает мне трудно иногда жить молча. Есть ведь такое, чем не поделишься с друзьями-приятелями, да и не очень-то полагается мне откровенничать здесь, поскольку все окружающие — мои подчиненные...
Второй час ночи. Валентина спит на диване — все чаще и чаще ложимся мы в разных комнатах. Но сегодня Валентине следовало бы не оставлять меня одного. Я ведь сам не позову. Должна была догадаться. Гораздо чаще, нежели предполагают женщины, требуются нам, мужикам, их присутствие, их тепло и близость.
Второй час. Вторая пачка сигарет распечатана. О Локтионове передумано все, что можно было передумать. О своей жизни — тоже. И все-таки осталось что-то беспокоящее меня, недодуманное, недосказанное.
Тлеет сигаретка, и слышно, как за окном вздыхает Иннокентий Павлович, доброе и преданное существо. Как человек — все понимает, говорить не может лишь. Пойти потолковать хоть с ним, что ли? Иногда помогает. Все-таки — живая душа.
И тут я вспоминаю: Темка!
Кадровый я склеротик. Забыл, начисто забыл. Однако склероз ни при чем. Не случись беды с Локтионовым, я, конечно, поздравил бы Темку с рождением дочки. А сейчас — не поздравил. И не поговорил с ним вчера — на всех находится время и на все, а вот близкому оно достается в последнюю очередь.
Я одеваюсь, торопясь, будто на вокзал. Не хочется, чтобы Валентина проснулась... Вылезаю в окошко, благо никто не увидит меня: все давно спят, и ночь темная.
Окошко у Темки светится. Заглядываю. Лежит. Вроде читает. Вхожу. Резервную бутылку я прихватил с собой.
Залужный. Трудно быть дезертиром
Я знаю Перелыгина с незапамятных времен. Буквально с незапамятных, ибо наше первое свидание состоялось через неделю после моего рождения. Между собой мы зовем Перелыгина Дипом, на людях величаем Дмитрием Ильичом. Наедине, как в детстве, он для меня — дядя Митя. Подвыпьем — даже просто Митя. Друг семьи, старший товарищ и коллега.
Первое, что я подумал, увидев дядю Митю на пороге: он знает все и пришел уговаривать. Или закатить взбучку. Я моментально настроился на то и на другое. Разговор с дядей Митей страшил меня больше всего, куда больше так называемого общественного мнения и, разумеется, несравненно сильнее беседы с родимой матушкой. Весь день я подспудно размышлял об этом разговоре и так не додумался ни до чего, решив под конец: а, кривая вывезет, и в конце концов дядя Митя — не пуп земли для меня. Этим я утешился.
Сейчас все мои сомнения и раздумья мигом возникли вновь, и я со страхом почувствовал: если Митя возьмется за меня как следует, могу не устоять и после буду проклинать себя, но уже запоздало.
Читать дальше