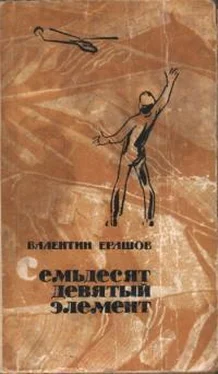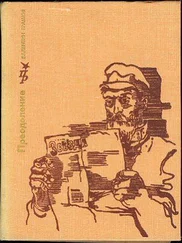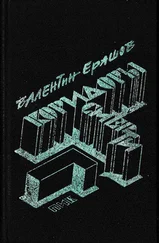— Полезный документик, — говорит Темка, издеваясь уже в открытую. — За отсутствием письмовника воспользовался предлагаемым образцом.
Лезет в карман. Достает листок. Разворачивает предусмотрительно. Протягивает мне.
НАЧАЛЬНИКУ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ «МУШУК»
товарищу ПЕРЕЛЫГИНУ Д. И.
от старшего геолога
структурно-литологической партии
инженера
ЗАЛУЖНОГО А. В.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить меня от должностных обязанностей, а также от работы в экспедиции по собственному желанию.
А. ЗАЛУЖНЫЙ
29 августа 1964 года.
Отпечатано красиво. И слова расположены точь-в-точь, как в моем заявлении. Даже переносы одинаковые. И отпечатано на моей машинке. И дата поставлена вчерашняя, хотя писал Залужный сегодня. Да, наверняка сегодня.
Говорят, двум дуракам веселее. Возможно. А вот лучше ли двум подлецам — я не знаю. Должно быть, нет.
Вдруг вспоминается пустое: в городе, в доме напротив, живет человек, удивительно похожий на меня. То есть не похожий. У него просто многие предметы одежды — как у меня. Такое же пальто. Темный берет. Желтые ботинки. Галстук. Ничего удивительного: покупали в соседнем универмаге. Совпадение. И все-таки всякий раз, сталкиваясь с двойником, испытываю чувство неловкости и отчего-то стыда. Не знаю, почему.
Такое же чувство, только куда как более пронзительное и отвратное, у меня сейчас. И я молчу.
Молчу, думаю о пустом. Ходила такая байка про неразговорчивого меланхолика Игоря Пака: «Внимание! Сегодня и ежедневно в послеобеденные часы посетители могут видеть уникальное творение природы — говорящий Пак!»
Молчаливый Дымент — не менее уникальное явление природы, наверное.
Два заявления лежат рядышком на столе. Одинаковые. Двойники.
Двойники стоят в землянке. И молчат.
Двойники. Сообщники. Соучастники. Дезертиры.
— Групповой полет в космос, — говорит Залужный.
— Слушай, — говорю я тихо, — всему есть предел. Даже твоему остроумию.
«Легко быть остроумным, когда ни к чему не испытываешь уважения», — вспоминается мне.
И еще вспоминается вчерашняя выспренняя речь Залужного. Предел ханжества. Зенит подлости.
— Мусор, — говорю я Залужному старое студенческое слово. Это значит — подонок.
— Два мусора, — спокойно поправляет он. — Будем самокритичны, бывший начальник партии.
— Один, — говорю я. и
Рву свое заявление. Мелко рву.
И засовываю клочья в карман.
— Катись, — говорю я. — Катись, куда хочешь.
Произносить агитационную речь бессмысленно. С равным эффектом я мог бы обратиться с нею к буровой вышке. К крестовидной антенне. К щенку Мушуку.
— Дешевый эффект, — говорит Темка Залужный. Ясно: не верит. В самом деле, заявление недолго и написать заново.
Мне плевать, что думает обо мне Залужный.
Важно, что я сам думаю о себе.
Ухожу.
Перелыгин. Финал второго дня
В ночь после гибели Локтионова я уснул только под утро. В пепельнице осталось чуть не два десятка окурков.
Смерть я видел, конечно же, не впервые. Прошел всю войну, с первых дней до самого Берлина, командовал взводом, ротой, под конец — батальоном саперов, а ведь известно, что если сапер ошибается, то всего лишь раз. К несчастью; саперы — люди, они ошибаются.
Видел я смерть и после войны — профессия наша не относится к числу уютных.
Но к смерти привыкнуть нельзя, сколько бы ни видел ее. Даже гибель врага потрясает — правда, иначе, нежели кончина друга. Но смерть есть смерть, и я не верю врачам, когда они говорят, будто привыкли к зрелищу агонии, к виду трупов. Думаю: к такому привыкнуть нельзя, если ты человек.
К мертвым я стараюсь не подходить. Слишком антагонистичны понятия — Человек и Смерть. Слишком чудовищно видеть человека неподвижным, навсегда лишенным способности действовать, ставшим только объектом для действий других. Видеть его безмолвным, холодным, превратившимся в обезличенный и бездушный муляж. И еще — чувство тягостной вины переполняет меня, вины, заключающейся только в том, что я дышу, говорю и даже перед лицом чужой смерти думаю о жизни. К мертвым стараюсь не подходить.
К Локтионову я пошел.
Обязан был пойти. Случилось в моем присутствии. Полагалось принять немедленные меры. Составлять всякие акты. А главное — я ценил и, пожалуй, даже любил Локтионова, был многим обязан ему и чувствовал к нему обыкновенное расположение. И кроме того...
А кроме того, я объясняю себе эти причины зря. Потому что все они заслоняются главной: сознанием собственной вины. Нет, не той вины, о которой я только что думал, не вины вообще, а вполне конкретной и ясной. Цепь событий замкнулась с неотвратимой последовательностью: я не потребовал обеспечить электриков средствами безопасности, не придал значения заявке Сазонкина; Сазонкин отстранил электрика шахты от работы; проводка осталась неизолированной; в результате погиб Локтионов.
Читать дальше