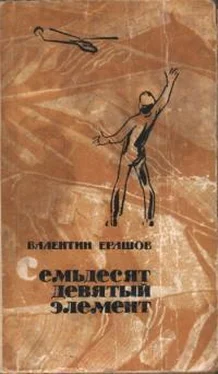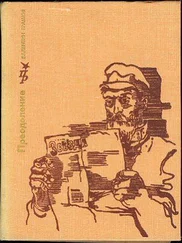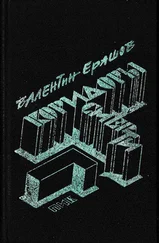В гостинице я прилег, и мигом сморил сон — в комнате было сумеречно и прохладно, занавески, в общем, спасают от самого злого зноя. Спал я, кажется, долго, сквозь дрему слышал, как в комнату вошли, но лень было открыть глаза.
Окончательно проснувшись, я тоже не сразу встал. Двое вели тихий разговор:
— Сорок два ему было. Пожилой. Толковый был мужик.
Я понял: говорят о Локтионове.
— Да, — сказал другой. — А мне вот тридцать. Что в жизни сделал? Да ни хрена. Семилетку закончил. Курсы буровых мастеров. Мотаюсь из экспедиции в экспедицию, так и помру где-нибудь в пустыне. А вот Пушкина в тридцать лет вся Россия знала.
— Ну, хватил, — сказал второй. — То Пушкин. А ты помощник бурового мастера.
— Все равно, — ответил первый. — Охота сделать, знаешь, такое...
— Делай, кто мешает? — сказал собеседник.
— Ничего ты не понимаешь, Михаил, — серьезно сказал первый. — Тебе бы только деньгу зашибать.
— А чем плохо? Тебе денег, что ли, не надо?
— Скучно мне с тобой, Мишка, — сказал первый. — Спал бы уж лучше. И человека разговорами своими разбудим.
— Сам начинал, — сказал второй.
Первый не ответил.
Я полежал еще немного, чтобы не смущать их своим пробуждением. И думал о том, что ведь каждому — наверное, каждому, даже вот этому Мишке — свойственна, пусть неосознанная и невысказанная, жажда свершить большое, важное, такое, что дало бы ему ощущение своей необходимости. А разве и мне тоже не хочется когда-нибудь написать книгу, которая потрясла бы человеческие умы и души? Другой вопрос — надо быть трезвым, надо учитывать свои возможности. Между прочим, моих друзей почему-то нередко раздражает, когда я говорю о трезвом учете возможностей. Не пойму, чего злятся. Разве признание того неоспоримого факта, что ты не Чехов и не Толстой, чем-то зазорно, разве заключено в этом самоунижение? Никому в голову не взбредет вообразить, будто он способен прыгнуть вверх, скажем, на пять метров. А вот воображать себя нераскрытыми, а то и непризнанными гениями — на это наш брат литератор горазд...
Уже темнело, в комнате предметы сделались почти неразличимыми, я встал и, не зажигая лампочку, вышел на веранду, умылся, отправился ужинать. День проходил пусто, и настроение у меня было скверное.
В столовой только и разговору, что про гибель Локтионова. Я ловил обрывки фраз, и почти все ругали Сазонкина, и никто не помянул Перелыгина — видимо, Перелыгина и побаивались, и уважали по-настоящему, и никому не приходила мысль винить его.
На обратном пути заглянул в библиотеку, познакомился, попросил разрешения порыться на стеллажах. Библиотека оказалась немаленькая — тысяч на десять томов, но безалаберная, книги раскиданы кое-как, под руку лезли больно уж неподходящие для здешних мест издания: морской русско-голландский словарь, справочник монтажника, пособие для режиссера народного театра...
Гостиница снова встретила безлюдьем, я завалился на койку и решил почитать подольше, но тут вполз Сазонкин, вид у него был, как у нашкодившего кота: виноватый и нахальный одновременно.
— Обратно же, кто виноват? — сказал он без предисловий. Он сдвинул на затылок соломенную шляпу и сидел у стола, как вчера, и плел словеса. — Техника безопасности за все в ответе. На Сазонкине отоспятся. Эх, дело прошлое, дали бы мне в городе две тысячи по-старому — дня бы здесь не остался. Да еще вот с квартирой хана, в городе-то.
— Слушайте, Сазонкин, — сказал я, — а ведь у вас в городе отличная квартира, зачем врете?
Я сказал наобум — и угадал. Сазонкин посмотрел ошарашенно, даже снял шляпу. Глаза у него белесые, с реденькими, будто выщипанными ресницами.
— Ну, есть квартира, — сказал он. — Так то не моя, жены квартира.
— И нечего врать, — сказал я. — Все вы, Сазонкин, врете.
Я ушел на веранду. Мне было тоскливо. Сегодня умер человек...
Я спустился с крылечка. На плоском, неизвестно зачем оказавшемся здесь камне сидела женщина. Я разглядел ее — смутно, — когда глаза малость привыкли к темноте.
Темь, тишина и одиночество угнетали. Я спросил:
— Можно, я посижу с вами?
Женщина подвинулась, я опустился на теплый камень.
— Вы из Москвы, говорят, — сказала женщина. — Хорошо у вас там, наверное. Никогда не была. Девятый год мотаюсь по горам да пустыням.
Она сказала с привычной горечью, даже, пожалуй, не горечью, а с равнодушной печалью — самой трудной из всех человеческих болей. Я не стал перебивать, зная: если человек начал говорить о себе так, он обязательно выскажется до конца, только не надо мешать, торопить, подталкивать.
Читать дальше