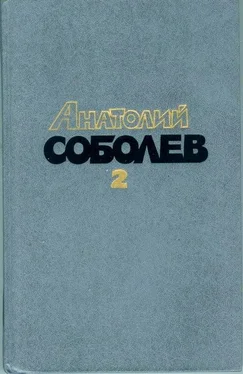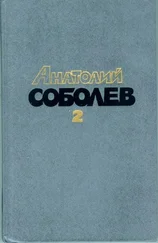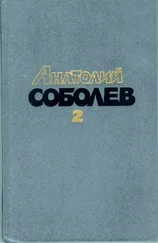— Васер…
Буравлев резко обернулся. Немец, которого он посчитал мертвым, был жив.
— Ах, васер тебе! Води-и-ички! — злорадно протянул Буравлев и пружинисто вскочил на ноги. Ненависть захлестнула его. Он рванулся к немцу, а рука сама выхватила финку из ножен. Два звериных бесшумных прыжка — и Буравлев возле кровати.
— Мутер…
Буравлев застыл. Перед ним лежал мальчишка. Моложе Звездкина. Рука старшины медленно опустилась. Тяжело дыша, он смотрел на немца. На веснушчатом лице мальчишки, с прилипшими косичками белобрысых волос и черными спекшимися губами, выступил зернистый серый пот. Буравлев за войну видел много раненых, сам не раз валялся в госпиталях и хорошо знал, какие раны смертельны. Такая была у мальчишки — в живот. Рука немца, лежащая на изодранной куртке, слабо шевелила пальцами, и они были похожи на белых червей в кровавом месиве живота. На левом рукаве мальчишки были треугольные нашивки — гитлерюгенд. Оболваненные нацистами, они дрались до последу. Буравлев уже встречал таких. Пока не убьешь — воюют. Умирает, гаденыш, а кричит: «Хайль Гитлер!»…
— Пи-ить, — донесло тихий шелест. Буравлев оглянулся.
Звездкин в беспамятстве шевелил обескровленными губами. Буравлев отстегнул фляжку и поднес ее к губам солдата. Но Звездкин уже не мог пить, и кровавая струйка вытекла из угла рта. Буравлев горестно покачал головой.
Звездкин начал икать, старшина понял — отходит. Сережа глубоко вздохнул и уже не выдохнул, затих. Широко раскрытые глаза его стеклянно смотрели на картину, где парусный корабль уходил в море.
Старшина снял шапку, опустился на колени и, глядя в мертвое, еще не остывшее лицо Сережи, с болью подумал: «Эх, малец, малец! Не доглядел я. На мне вина».
Буравлев прикрыл веки Звездкину и нежно сложил его руки на груди. И эти безвольные мальчишечьи руки вызвали острый приступ горькой жалости, Буравлеву перехватило горло.
Он стоял на коленях перед своим солдатом, перед его живыми еще и в то же время уже мертвыми руками, из которых ушла живая сила, отлетело тепло и последним замедленным движением текла холодеющая кровь. Эти тонкие, не успевшие окрепнуть мальчишечьи руки со сломанными ногтями, в ссадинах, запачканные оружейным маслом, в короткой жизни своей ничего не держали, кроме легкого ученического пера да тяжелого солдатского автомата. Они скорбно и величественно, будто изваянные из мрамора гениальным скульптором, лежали на затихшей груди; узкие недозревшие руки, которым при жизни, если бы не было войны, предстояло стать руками мужчины, чтобы обнимать любимую, ласкать детей, приобретать рабочие мозоли, творить добро и радость. Но эти прекрасные и добрые, грозные и беззащитные руки были уже мертвы.
Буравлев покачивался из стороны в сторону и тихо стонал. Он держал остывающие руки Звездкина на его груди, чтобы закостенели они в последнем молитвенном жесте пред вечным упокоением.
И когда руки Сережи схватились мертвой неподвижностью и уже не расползались с умолкшей груди, старшина осторожно, будто боясь спугнуть последний сон солдата, встал и почувствовал страшную смертную усталость. Он опустился в жесткое с высокой резной спинкой кресло и застыл в тупом оцепенении.
…Очнулся он от выстрелов. Неподалеку шла перестрелка, видимо, опять вышибали откуда-то последних немцев. Буравлев встал — надо было идти продолжать войну и жизнь.
Взгляд старшины скользнул по генеральским портретам, по их высокомерным и бездушным лицам, и у него вдруг возникла тревога и смутная догадка, что эта война не последняя, что пока будут на земле ЭТИ — будут войны.
Буравлев сходил к немцу в спальню и увидел, что он тоже мертв. Поднял изящный «вальтер» — смертельную игрушку — и положил в карман.
Старшина вернулся в кабинет, взял автомат Звездкина с выжженной фамилией на прикладе, вспомнил, как ругал его за это, и горько усмехнулся. И тут Буравлев снова увидел надменные, спесивые лица генералов, и злоба захлестнула сердце. Вскинув автомат Звездкина, он в бешенстве нажал на спуск. Остервенело матерясь, повел стволом по генеральскому ряду, всаживая длинную очередь в пустые жестокие лица. Звенело стекло, летели щепки золотого багета, черные дыры возникали в полотнах, а Буравлев все стрелял и стрелял.
Он расстреливал их за Звездкина, за всех, кого похоронил, за всех, кого потерял на войне.
— Нет, сволочи! Нет, нет, нет!..
Яростно нажимая на спуск, Буравлев бил и бил из автомата, но на сердце не становилось легче.