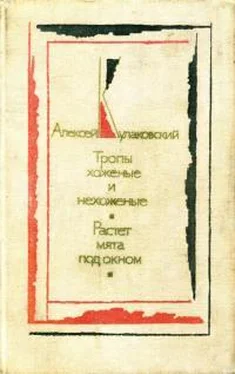— Отдай мое! Отдай то, что забрал! — со злобным скрежетом зубов и плачем потребовала Бычиха. — Все забрал!.. Все!.. Растила тебя… в животе выносила, на руках носила…
— Ничего я твоего не брал! — сдерживая и дыхание и голос, прошипел сын. — Змея ты старая, а не мать!.. По сумкам и карманам лазаешь… Думаешь, не вижу, что и одежда не на месте лежит?..
Он так рванул сумку, что Бычиха даже перевернулась на полу, в ее руках остался только нож.
— Чтоб ты подавился этим, ирод! — простонала старая. Потом повернулась на бок и запустила в сына ножом.
Тот вовремя отскочил, но, когда увидел, что в сумке осталась только майка, снова подступил к матери…
В этот момент хата содрогнулась, и окна зазвенели от сильного взрыва.
Перед тем как Бычиха своим шарканьем разбудила Богдана, он видел красивый сон. Снилось ему, что был он молодым, с белыми, без морщин и узлов, руками и что играл на своей скрипке. Игралось легко и хорошо, музыка лилась будто сама собой. И люди слушали его игру. Не только в хате, но и на улице, во всей околице… Может, даже и в Голубовке слышна была дивная, небывалая игра.
Теперь он босой, в одних подштанниках сидел на своей неприбранной постели и вспоминал этот сон. Боль в душе нарастала, усиливался стук в голове. «Где война хуже? В моей хате или там, где рвутся бомбы и снаряды?..»
Уже совсем рассвело. Возле порога поблескивал лезвием столовый нож. Худая, с выпирающими лопатками спина Бычихи судорожно подергивалась на лавке под домотканой постилкой. Старуха закрылась этой постилкой с головой, может, чтоб не видеть ни света в окнах, ни людей, ни самой себя. Рядом с полатями, на которых спал Богдан, белела раскрытая и пустая постель Панти. Тут же стоял табурет, но на нем уже не было пожарной формы…
Богдан страшно боялся войны. Он терялся, ощущал дрожь в ногах и холод в теле, когда думал о войне или если что-нибудь напоминало о таком ужасном несчастье. Сегодняшний взрыв на аэродроме, конечно, тоже испугал его, но — не взять бы греха на душу — будто и порадовал, потому прервал такую неприятность в хате, какой еще никогда не было. И это в первый день прихода сына…
Теперь Панти снова нет дома. Ушел, одевшись, забрав и сумку и шинель. Бычиха как лежала, так и лежит. Может, даже и о сыне не думает. А Богдан с болью в сердце предчувствует, что сын уже не вернется. Опять утрачено то, что хоть немного радовало в эти мрачные часы, подавало какую-то надежду…
На улице послышались чьи-то голоса. Богдан подошел к окну, посмотрел. Ромацка Гнеденький с Вулькой гнали хворостинами двух поросят, а Марфа бежала вслед за ними и кричала.
Старик догадался, что это такое творится, выбежал, на ходу надевая штаны, стал им наперерез.
— Вы куда это? Что? С фермы?
— А цего им там дохнуть? — оттопырив верхнюю губу, спросил Гнеденький. — Кормить некому и нецем.
— Гоните назад! — строго приказал Богдан. — Это же колхозное! Понимаете? Что вы, это самое?.. Я сейчас же заявлю в район!
— Заяви-и! — зло оскалился Ромацка. — Кому ты заявис?.. Там узе ни одного начальника нет!
Богдан все же задержал своего зятька, а Вулька коршуном кинулась на Марфу, отбивая поросят. На женский крик выскочили из дворов люди, и, пока женщины чуть не таскали друг друга за волосы, Ничипор погнал поросят на ферму.
Встретив потом обиженного Ромацку, Ничипор сказал примирительно и благоразумно:
— А если наши скоро вернутся? Тогда что? Ты об этом подумал?
— Да где они вернутся? — не соглашался Гнеденький. — Вон немец, слысно, узе Минск занял, на Москву прет… По сасе спарит. Нет узе никого ни в Слуцке, ни в Старобине… И насы тут будто сквозь землю провалились: и Клим, и мэтээс. Вот только этот старый дурень!.. — Гнеденький понизил голос и оглянулся на Богданов двор. — Думает, его похвалит за это советская власть. А где она теперь, эта власть?..
— Почему где? — возразил Ничипор. — Советскую власть никто у нас не отнимал, так как мы и сами власть… Вон в Голубовке и метефе [3] То есть молочно-товарная ферма.
на месте, и даже кони. Там все знают и ждут, что наши вернутся.
— Так я за сто?… — начинал отступать Гнеденький. — Я зе не то сто… Ну подохнут… А у меня картоска есе прослогодняя осталась… Думал, прокормлю… А там… присли бы насы, то пускай бы и забирали…
— Нет, нет! — решительно заявил Ничипор. — Ты законов не знаешь! Колхозное! Слышал, что сказал Богдан? Он зря не скажет. Вон мой парнишка аистенка принес домой и кормит. А свинья или конь — колхозные, значит, государственные… Я тоже бригадных коней никому не отдаю. А ты законов наших не знаешь!
Читать дальше