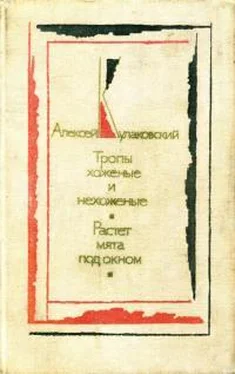— Коробочку нашел… На чердаке в кострице, — после долгих уговоров признался Пантя.
— А что там было, в той коробочке?
— Блестящие кружочки, но не пуговицы.
— Так! — с отчаянием промолвил Богдан и ссадил мальчика с рук. — Ты отдал это матери. Что она сказала?
— Сказала — поискать еще. А больше там ничего не было.
Богдан снова выхватил из-под припечка полено, кинулся к двери, потом почему-то передумал и швырнул полено в угол. Зашагал по хате, крепко ступая подплетенными веревкой лаптями по сыроватому полу. Пантя стоял возле лавки, на которой недавно сидел отец, со страхом следил за его движениями и поглядывал на дверь. Ему очень надоело и опротивело находиться в хате с отцом, хотелось как-нибудь половчее и незаметно удрать на улицу. Там и мамку можно будет найти, и пальтецо, которое лежит где-то под забором.
— Снимай и ботинки! — приказал отец. — Они тоже не твои!
Пантя еще ни разу сам не обувался и не разувался, он не знал, как расшнуровывать ботинки, но боялся не послушаться отца — сел на пол и обидчиво заплакал. Богдан подошел, низко, как в поклоне, нагнулся.
— Не умеешь сам? Давай помогу!
Без пальтеца и ботинок, с грязными полосками от слез под глазами, мальчик совсем не был похож на того шустрого ползуна, который определенно побывал во всех Квасовых закутках, да, очевидно, не только в Квасовых. Поникший, беспомощно сгорбленный, с босыми покрасневшими ногами, на которых только что были почти новые ботинки, он сидел на полу до тех пор, пока отец не поднял его и не приказал лезть на печь. Спрятавшись за трубу и таким образом умерив свой страх перед отцом, Пантя уже громко и требовательно заплакал. Понимай вот, отец, какое теперь горе у него, какая обида, какое страдание… Зима на дворе, а он голый и босой… Лазил всюду и искал, искал чего-нибудь чужого… Отдавал все матери, а не отцу… Сколько теперь придется сидеть на печи?.. Как же теперь вырваться на улицу и к Квасам?..
— Я еще найду! — вдруг, проглотив слезы, сказал, мальчик.
— Чего? — Богдан ступил к печи.
— Кружочков этих.
— Я тебе найду! — крикнул отец, взмахнул грозно руками, а потом как-то сразу притих, начал будто спросонья тереть поседевшие виски и глубоко сморщенный лоб. — Ничего, сынок, больше не ищи! — заговорил ласково, вполголоса. — Чужое брать нельзя, грех, хоть теперь бога, может, и нет. Чужое иметь, так лучше ничего не иметь. Зачем оно нам, чужое? Вот вырастешь, будешь помогать мне, так все будешь иметь свое. А потом ты поедешь в город учиться, выучишься на… — И не мог сказать, на кого Пантя выучится. — Будешь иметь свои блестящие сапоги и пальто, как у нашего кооперативщика. Видел — один раз заходил к нам кооперативщик пай взимать? Ты посиди тут, только не плачь, а я сейчас приду.
Хотяновский накинул на плечи кожух, прикрыл островатую лысину овчинной шапкой-столбуном и сильно хлопнул за собою дверью. Труба задрожала и как-то таинственно загудела возле уха Панти. «А что там в ней, в середине?» — с интересом подумал мальчик.
Бычихи во дворе не было, но исчезло и пальтецо с того места под забором, куда выкинул его Богдан. «Значит, подхватила она и сама вряд ли далеко ушла». Подошел к хлевушку — щеколда была опущена, затычка висела на веревочке, слышно было, как громко хрупал Хрумкач. Потянул на себя ворота — не открылись, а с той стороны ни крюка, ни задвижки не было. Потянул еще раз, изо всей силы — щель немного расширилась, а дальше ворота не открывались, были за что-то привязаны.
— Открой или плохо будет! — пригрозил Богдан. — Давай лучше по-хорошему!
В хлевушке никто не отзывался.
— Ты отвяжешь там или нет? — не терял выдержки хозяин. — Поговорить надо, чтоб ребенок не слышал.
Тишина в хлевушке не нарушалась, только конь начал снова сильнее хрупать, видимо поняв, что хозяин никуда не едет и запрягать его не собирается.
Подождав с минуту и еще раз убедившись, что упрямства у этой женщины хватит, пожалуй, на всю ночь, пошел в сарайчик и взял колун. Вернувшись, стукнул обухом по воротам, грозно сказал:
— Не откроешь — порублю ворота! Слышишь?
Но и на эту угрозу никакого ответа из хлевушка не послышалось.
Богдан засунул колун в щель между воротами и притолокой и так нажал на топорище, что доски затрещали. Через щель, в какую уже можно было просунуть обе руки, разрубил веревку. Войдя, увидел, что это была лошадиная уздечка с длинным поводом.
— Вот дура! — промолвил он со злостью и обидой, но негромко, будто для себя. — Ни разу не подымал руки, а теперь, наверно, придется. Отзовись! Где ты тут?
Читать дальше