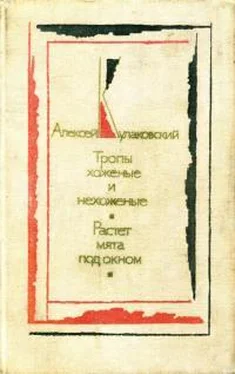Как-то Левон незаметно исчез; так же незаметно он временами появлялся в деревне. Не было его всю зиму и все лето. К заморозкам он прибился снова домой и уже многие вещи стал называть не так, как у нас, а по-своему, по-городскому. Его хата была уже не хата, а изба, соседский конь — лошадь, Лепетунов млын — мельница. Говорили у нас, что он проработал почти целый год в самом Минске в какой-то больнице или аптеке, помогал там составлять лекарства и лечить людей. Когда вернулся, то люди заметили, что от него еще больше, чем раньше, попахивает лекарствами, а в хате так и вовсе было как в аптеке. В лес он стал ходить почти ежедневно, возвращался поздно, редко с кем встречался, разговаривал и вообще держал себя как-то скрытно, загадочно.
Эта загадочность прежде всего и заинтересовала Богдана. Он начал вечерами наведываться к Левону, и главной заботой у него было все то же: выведать, можно ли будет хоть через несколько лет податься в большой город и его сынку, и примут ли его там хоть в какую-нибудь больницу, или на железную дорогу, или хотя бы учеником по какому-нибудь ремеслу? На какое-то, хоть маленькое счастье в Бычихином хозяйстве Хотяновский не рассчитывал, потому как на треть надела была еще Вулька, рябоватая, нелюдимая, не очень-то складная даже в новом платье. Мать уже теперь ищет для дочери какого-нибудь примака, так как замуж такую цацу вряд ли кто возьмет. Если же думать о чем-нибудь новом в Арабиновке, то когда это еще будет, да в какое, хотя брат Антось писал, что в ихнем Жеребячьем Леске уже собиралась беднота на сход. Антось был левшой, поэтому трудно было все разобрать, однако Богдан уразумел, что причиной всему там была Антосева молотилка, которую выдало ему государство как инвалиду гражданской войны. Молотилку Антось получил, но что было ему молотить в своем бедняцком хозяйстве? За полдня все можно было обмолотить, начиная с ржи и кончая горохом. Стал Антось давать машину другим таким же малоземельным крестьянам и платы за это не брал. Так постепенно начало складываться бедняцкое сообщество по молотьбе. А если бы попросить у государства и еще машин?
— А не слышно ли там чего про то самое… — расспрашивал Хотяновский у Левона, — про коммуны? — Спрашивал с надеждой и уверенностью, что тот обо всем знает и на каждый вопрос ответит.
О коммунах, однако, Левон почти ничего не знал, так как в городских больницах о них, наверно, еще не говорили, не не сказать ничего и показаться Богдану отсталым человеком Левон не мог. Потому он ответил тогда примерно так:
— В городе еще ничего не слыхать про это, но как я сам думаю и по писаниям разумею, то такая обчая жизь для бедняков может быть.
Богдан хоть и не всему верил, что говорил Левон, однако в основном соглашался с ним и чувствовал, что какая-то другая «жизнь» должна наступить. И наверное, лучшей она будет для бедных, чем теперь на этих Бычихиных «хозяйствах», — меньше будет забот и мучений в добывании куска хлеба.
Ходили привлекательные слухи о коммуне на Любанщине, в каких-то тридцати верстах от нашей деревни. Говорили, что там для коммуны выделена самая лучшая, в прошлом панская, земля и имение панское отдано коммунарам; что там есть не только молотилки, но и пароконные плуги и жатки; что все там — бывшие батраки и бедняки, но живут теперь в достатке.
Хотяновского, как и всех беднейших арабиновцев, радовала такая поголоска, но следом за ней ходила и другая: «Живут, работают вместе, но и «сплять» все вместе, под одним одеялом».
Хоть и не так далеко была эта коммуна, но никто из арабиновцев туда пока что не наведывался: те, кто был побогаче, не хотели ехать, — им пришлись по душе такие разговоры о коммунарах; бедные просто жалели своего времени и своих коняг, у кого они были, для поездки в коммуну.
Как ни раздумывал, как ни разгадывал Богдан Хотяновский о будущем своего сына, как ни опускал голову, ни замыкался в своих размышлениях и мечтах о его счастье, все же тот неожиданный, внезапный слух, что начал напористо распространяться по деревне, дошел и до него. Это был страшный, губительный слух, он чуть не перевернул человеку всю жизнь.
Что же это было? Прежде всего то, что никаких сбережений у Бычихи не было, а справляет она кое-какие обновки дочери и сыну совсем на другие деньги: не заработанные и не полученные в наследство. Каким-то образом откуда-то возникло и расползлось по деревне, что будто бы Пантя носил домой и отдавал матери не только яйца от Квасихиных кур, но и кое-какие вещи. Отыскал где-то у Квасов и ящичек с золотом, видимо Сушкевича, о котором, наверно, никто из Квасов и не знал. Хотя тогда, может, он и сам не понимал, что это такое, но принес матери.
Читать дальше