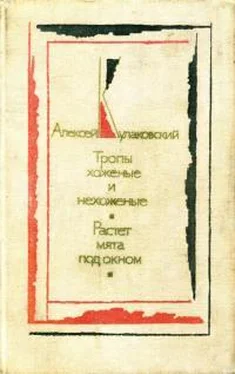Не поверил сначала отец таким слухам, да и в самом деле трудно было поверить. Может, от злости плетут люди, может, от какой-то неуместной зависти?
…Позвал Богдан к себе сына, приказал надеть новое пальтецо. На Бычиху крикнул так, как никогда еще не кричал, и даже выхватил из-под припечка полено. Женщина испугалась, выскочила из хаты. Вулька ушла сама, как только заметила взгляд отчима, тяжелый и колючий.
Сын стоял перед ним хоть и замурзанный, но все же праздничный в новом пальтеце. Стоял, с любопытством и настороженностью поглядывая на отца, видимо ожидая, что тот снова начнет любоваться красивой одежкой и, радоваться, что она так украшает его сына. И действительно, вместо того чтобы строго допрашивать, отцу хотелось еще раз порадоваться, подхватить сынка на руки, приголубить, поцеловать, отвести в нежности душу. Но почему-то вот в эту минуту пальтецо стало отнюдь не украшением для сына, а какой-то отвратительной преградой к любви и нежности. Протянуть бы руки, чтоб хоть дотронуться до притихшего и конечно же немного напуганного отцовским криком мальчика, да страшило пальтецо, позорило сына и самые дорогие отцовские чувства.
— Скинь это, сынок! — сказал Богдан. — Скинь и никогда больше не надевай!
Отец почувствовал, что не может больше смотреть на эту одежку, что из-за нее что-то недоброе пошевеливается в душе против сына.
— Почему? — спросил мальчик.
— Потому что оно не твое.
— Мне мама купила.
— Скинь, я тебе говорю! — крикнул Богдан и сам почувствовал боль в сердце, увидев, что ребенок вздрогнул от испуга и горько скривил губы.
— А что я… что мне надевать? — плача, спросил Пантя.
— Я тебе лучшее куплю… Будешь носить…
Богдан снял с мальчика ненавистное пальтецо и несколько раз махнул им по хате, не находя такого места, куда б его можно было бросить. Потом вышел в сенцы и, подумав, что Бычиха где-то возле окон, швырнул пальтецо на грязный снег к забору. Вернулся и взял сына на руки. Раздетый и перепуганный, Пантя выглядел сиротливо и беспомощно, бледные, немного запачканные чем-то черным губы жалобно дрожали, на глаза набегали слезы. Богдан почувствовал, что напрасно был так строг со своим ребенком. Учинил ему допрос, будто малыша можно было винить в том, что ему хотелось носить новое пальто.
— Успокойся, — ласково сказал отец, — я больше не буду на тебя кричать.
А сам думал: «Разве я правду ему сказал, что куплю пальтишко? За что куплю? Когда куплю?.. Но и не свое носить, не собственными мозолями добытое, не дай боже: стыдно и гадко. И голому ходить нельзя…»
— Ты мне скажи, сынок, — тихо, нежно заговорил Богдан, хотя и сознавал, что, может быть, и не надо было бы спрашивать у ребенка про такие вещи. — Вспомни все и скажи — ты приносил когда-нибудь что-либо домой от Квасов?
— Это еще когда тепло было? — переспросил мальчик.
— Ну, может, тогда, может, теперь?
— Яйца приносил, — сразу сказал мальчик.
— Яйца?! — Богдана как огнем обожгло — вспомнил, что летом несколько дней подряд на завтрак была яичница в самой большой сковороде. — Где же ты, сынок, брал эти яйца?
— Под Квасовым амбаром, — охотно сообщил мальчик. — И всюду! Там их много было.
— А еще что приносил? Скажи, вспомни! Я просто спрашиваю, кричать на тебя не буду. Не бойся! И бить не буду.
Пантя некоторое время молчал, наверно представив мать, которая не один раз грозила ему, что если скажет об этом отцу, то она отберет и пальтецо, и ботинки, и выгонит голого и босого на мороз, чтоб замерз там и превратился в ледышку.
— Еще пуговицы, — наконец сказал мальчик.
— Какие пуговицы, откуда?
— Блестящие и так себе… — уточнил Пантя. — Аркадь сам их откуда-то срезал и отдавал мне…
— Ну, пуговицы ты не срезал, — похвалил Богдан сына. — Это хорошо. А что ты сам нашел да принес матери?
— Яйца, — снова повторил мальчик.
— Про это ты уже говорил. А что еще? Скажи мне, сынок, — настаивал отец. — А то я долго буду спрашивать, пока не скажешь. Вот скоро стемнеет, а я все буду спрашивать. Люди сядут вечерять, а мы ничего не будем есть, пока не скажешь. И спать не будем всю ночь, вот так и просидим, потому что мне очень надо знать, что ты принес. Ты боишься матери?
Мальчик молча кивнул головой.
— Не бойся, я не дам, чтоб она тебя била или выгоняла из хаты. Не бойся ее!
— А Вулька сказала, что задушит байстрюка, — чуть не заплакав, сообщил малыш.
У Богдана потемнело в глазах:
— Какого байстрюка?
— Меня.
— Не бойся, сынок, и ее! Она неправду сказала! Я прогоню Вульку из дома за такие слова. Я ее вон тем поленом! — Отец показал бородой на дрова под припечком. — Ты никакой не байстрюк, а она-то… — Богдан осекся, поняв, что не с ребенком вести такой разговор, но от обиды и боли готов был сказать невесть что о своей приемной дочери.
Читать дальше