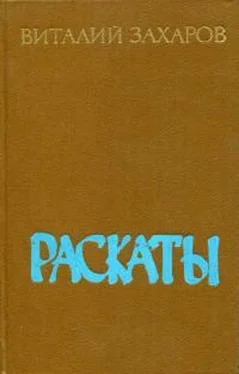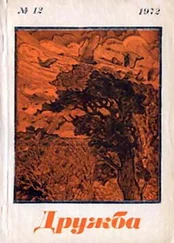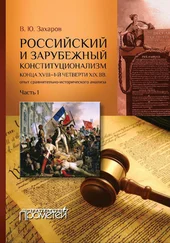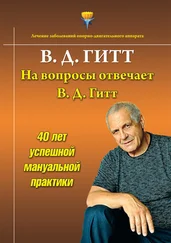К нему тихо подходит Федька. Нелюдимость у него все-таки осталась — когда людей много, он не подходит и к Митьке.
Сидя рядышком на траве, они по-взрослому молчат. Сейчас Митька не заставляет друга говорить.
Почти совсем уже темно. Наверное, было бы очень тихо, если бы не приемник деда Лепилина. Громкий голос диктора сейчас кажется лишним: земля ждет чего-то мягкого, плавного, может быть, нежного напутствия на мирный сон. Но не на всех, оказывается, тишина действует таким образом: я слышу ясно, в какое беспокойство вдруг приходит Митька. Он вскакивает, садится на березу, сползает обратно. Потом вспыхивает спичка, и загорается папироска — Митька иногда курит втайне от отца. Раздается горячечный беспорядочный шепот:
— Слушай, Федька… уеду я скоро отсюда. Далеко уеду, аж в Сибирь. Но не в этом… Ты слушай. Не будет меня — ты не переставай в поле кричать. Трактор гудит — никто не услышит. Ты упрямый, как еще будешь говорить! Ты сможешь, я знаю, хотя и ругал часто. А осенью — обязательно в школу. Слышишь, Федька! Обязательно.
— Д-да, я пой-д-ду… М-мне тетя В-варя… т-также г-говорила — г-говорить б-больше.
— Это ты опять про Морозиху, что ли? И нисколько ты не боялся ее? Бр-р!..
— Н-не-ет. Она х-хорошая б-была.
— Ну ладно, шут с ней. Ты говори больше. И не обижайся, что я бросаю тебя. Знаешь, не могу больше, жжет у меня вот здесь… Не могу. Тихо очень здесь, тесно, а по мне — чтоб кипело всегда. Я буду писать. А ты — не слушай никого, будь вот таким упрямым всегда… Как приеду в отпуск — чтоб читал вслух вовсю и не хуже меня. А там, глядишь, получишь ты паспорт и — айда со мной. Учиться везде можно… Слышишь, говори ты, ради бога, смелее. Всегда говори. Делай это ради меня, а? Ну, чего молчишь? Кому говорят!
— Д-да я же… г-говорю.
— Ну вот и хорошо. Ну и ладно нам здесь торчать. Пойдем, я тебя в шашки раздолбаю.
— Раз-д-долбаю! Д-да я т-тебя…
И они уходят в сторону клуба, дружно шурша жухлой осенней травой.
…Какой ты теперь, Федька? Как тебе служится в далеком Уссурийском крае, офицер Федор Савельев? Ах, жизнь! Даже на такое ухитряешься ты накладывать печать забвения… Напишу, напишу сегодня же, разве можно быть настолько забывчиво-черствым?! Ведь адрес-то вот он, рядом, через улицу всего. Не поленись сделать лишний шаг — и к тебе вернется друг…
А я, Федька, вернулся уже давно, совсем не способным оказался я жить вдали от Засурья. И землю я, Федька, не перевернул, даже наоборот — после долгих шатаний и шараханий из края в край я постиг сердцем отцовскую мудрость, что не надо ничего слишком резко «переворачивать». Один вред от них, от этих переворотов.
И снова — ветровое зеленое взгорье: моя опушка, мой Прогон.
А в низине, на дне воронкообразного поля, лежит моя деревня, мое Синявино. Тесовые, железные и черепичные крыши выложены, как костяшки домино, аккуратной буквой «Т»: вертикальная палка — прямая длинная улица Линия, на ней наш дом; верхняя перекладина буквы — улица Поперечная; черточка снизу, как основание, — Заголиха. По-за огородами с обеих сторон тянутся темно-синие валки ивняка, растущего на бережках двух овражков с колыбельно-ласковыми названиями: Крутенький и Клубничный (соединившись в лесу, они образуют овраг уже с другим именем — Казачий — где-то на нем, говорят, стояли на привале казаки Пугачева). Такие же звучные, ласковые названия носят у нас и деревни — Поляна, Краснобор, Яблоновка, и озера — Долгое, Светлое, Крутоярка, и все, что имеет право на имя.
Выше валика ивняка деревню кольцуют разномастные полоски посевов ржи, гречихи, клевера. А дальше и выше — несказуемое буйство красок! Неровной грядой, ступенями поднимается зеленая, синяя, пурпурная гряда леса, незаметно тающая в неподзорно голубой глубине горизонта. Это — Засурье…
И только там, где каждый вечер садится солнце, красивое природное многообразие горизонта нарушает, явственно выступая из марева дали, белокаменная Порецкая колокольня. В ту сторону теперь мой путь. «Пора, пора! Рога трубят!..»
Два часа бодрой ходьбы через Кожевенное на Кудейху, и я уже на шоссе, по которому с лихим гулом проносятся железные дети века. Вон идет, сверкая стеклом и никелем, и мой комфортабельный «Икарус». Пора, пора… «Стой, «Икарус»! Я тебя поцелую в твой горячий стеклянный лоб!»
Ну, если уж поэзией запахло, то теперь меня хватит надолго. Может быть — на целый год…
Спасибо тебе, Засурье — всемогущий лекарь души моей. Светоч души моей, светоч земной.
Читать дальше