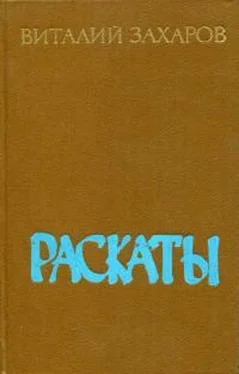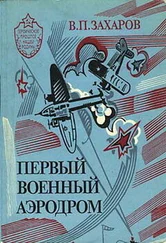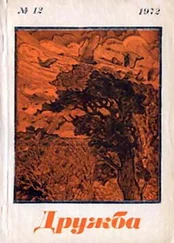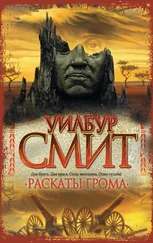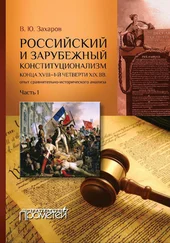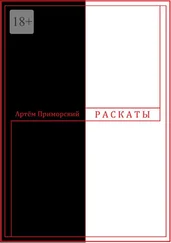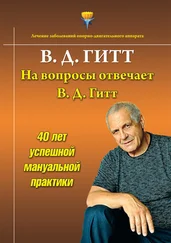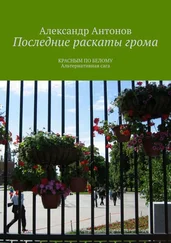— А где я возьму людей, фенькина-то мать!.. Самого-то его я не пущу по дрова, пусть лучше потерпит месяц-другой — не зима еще во дворе. Даже пары свободных рук нету, не то что машины! У меня и так все от темна до темна работают, не знай уж по каким расценкам платить. Когда колхоз был, вроде бы так и положено, а теперь они — рабочие, им за восьмичасовую смену платить надо… Вот разгрузимся с уборкой — пожалуйста. Хоть три машины враз. А сейчас — ей-богу же, некого послать.
Не поедем же мы с тобой, фенькина…
— А что, для Павла Ивановича и нам не грех. Твое-то поколение у кого учится человеками стать, а? Тем более сами знаете, каково ему в холод. Скоро заморозки пойдут — культяпка его потянет так, что сляжет он… Соберемся вот как-нибудь вечерком и съездим, а, товарищ управляющий?
Сергеич молчит. Наверняка раздумывает, каково это будет выглядеть для управляющего — ездить за дровами для кого-то. Но раздумья его недолги — он тут же заполняет «газик» зычным хохотом. И выдавливает сквозь смех:
— Ку-упил… ты меня, ой купи-ил… — И вдруг, посерьезнее, спрашивает: — А что, сильно меня Дарья ругает?
— Сильно, Петр Сергеевич. Сильно.
Он почесывает затылок, игрушечно ведя машину одной рукой, и сдается совсем:
— Поедем, поедем. И хорошо это будет, к черту фенькину мать! Понимаю — обиделся на меня Павел Иванович, но ведь…
Я сижу, улыбаюсь и теперь уже с большим удовольствием слушаю новый бесконечный поток жалоб управляющего на всех и вся. Видимо, они у него, жалобы, никогда не кончатся — слушаю всю дорогу до самого поворота, от которого идет добротно торная тропа налево. Это мой дальнейший путь — на Мартовку. Оробевший снова, пройду по ее бугристым улицам, по которым столько раз спешил на уроки в среднюю школу, обойду гулко пустующие летом классы, в которых проведена очень значительная часть жизни (пусть не по времени, а по душе), загляну на пришкольный участок, где шумно хозяйствует «племя младое, незнакомое», а если повезет, так встречу Николая Петровича, Ольгу, Олимпиаду и Елену Николаевных, Аркадия Васильевича, смущенно расскажу им о своих послешкольных путях-дорогах и жадным взглядом буду ловить в их глазах свет одобрения или тусклую тень огорчения, непонимания, осуждения…
В Порецкое, наш райцентр (его я в своих работах стеснительно переименовываю в Речное, потому что иногда приходится описывать очень уж известных людей), тоже надо обязательно добраться хотя бы ненадолго. Постоять у Суры, окунуться в ее частые и мелкие, по сравнению с волжскими, волны. Потом подняться на крутой левый берег, туда, к белокаменной колокольне, царствующей над всем проглядываемым с горы простором Присурья. А оттуда всего метров триста по зыбучим деревянным тротуарам вдоль запыленных палисадниковых растений и кустов — и за серыми кустами высоких акаций небольшой двухэтажный домик райгазеты, в которой впервые свои мысли и чувства увидел воплощенными печатными буквами и после чего сторонним глазом понял всю их беспомощность. Долгие годы потом, после этого, не притрагивался я к бумаге, но болезнь оказалась слишком глубокой, подавить ее так и не удалось, и она снова вынырнула уже в зрелые годы, перевернула всю жизнь, треплет неотвязно… И если попадешь в редакцию под вечер, то наверняка застанешь там учителя местной школы, партизана Отечественной, довольно известного уже поэта Владислава Грибова, который когда-то «нас заметил» юных и не всех «благословил», а сам же через некоторое время необидно помог понять, кто из нас есть кто. Что ж, мало ли кто в молодости не воображал себя поэтом! Проходят годы, человек находит себя в чем-то другом, не менее важном и нужном, а увлечение юности остается еще одной щемяще-прекрасной станцией грохочущей все вперед жизни — в неведомое и манящее. И хорошо, что есть возможность однажды вернуться на эту станцию, побывать с ее милыми сердцу хозяевами.
Там я наверняка услышу новые стихи и даже поэмы и с тайным вздохом узнаю о новых обнадеживающих именах — больше, конечно, из Засурья: природа свое творит, — которые стучатся в поэзию.
И возможно, стучатся смелее и с большим основанием, чем мы, до сих пор еще сомневающиеся в себе. Доброго им пути…
— Так, говоришь, надо с людьми научиться отдыхать, бабк?
— Надо, Дмитрий. Трудно жить без этого.
— Да ведь тогда я и сюда перестану приезжать!
— А навряд ли. Родной край он всесилен для умного человека. Да и больно уж не просто там у вас, смотрю, в городе-то. И люди, и жизнь чересчур бойки. И работа твоя… Ну-тко, скажи то, чего никто еще не сказал. Потому и прибегать сам не свой. И сызнова прибежишь, прибежи-ишь! Куда ты денешься, коль уж такой уродился. Все на сердце берешь, а оно ведь не железное, как машины ваши… Ты ж уезжал однажды. Помнишь? Думал, поди, насовсем?
Читать дальше