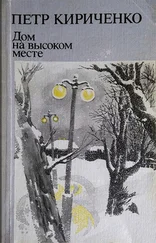Я ничего не ответил.
День похорон выдался холодным; утром падал мелкий сухой снег, а затем стал накрапывать дождь. Небо было низкое, тяжелое. Темные лохматые облака нависали над кладбищем, кропили водой могилы, редкий кустарник, всех нас и бойкий тракторец заморского рода, который готовил могилу. И то, что это происходило на наших глазах, только усиливало безрадостную картину похорон. Все смотрели на работу ковша, и это было тягостно. Мать Татьяны, невысокая женщина в черном платке, уже не плакала, только неотрывно глядела на дочь. Рядом с нею стояла наша бортпроводница, укрывая зонтом и ее, и лицо Татьяны. Начальник службы бортпроводников сказал, что Татьяна летала и у нее было прекрасное будущее; Лика пыталась говорить, но только расплакалась. Вот и все, но крышку пока не закрывали, давая возможность проститься, взглянуть последний раз. Сзади меня какие-то две женщины тихо разговаривали, и одна из них сказала, что Татьяна выходила замуж. Наверное, она показала на меня, потому что другой голос живо подтвердил:
— Ага!
И совершенно равнодушно я подумал, что если здесь кто-то и хоронит, то это только мать Татьяны, для всех остальных похороны были печальным зрелищем. Наверное, я был неправ, но в те минуты мне хотелось только одного — чтобы все поскорее закончилось. На Татьяну я старался не смотреть, потому что лицо ее изменилось и казалось мне чужим. И не покидало такое чувство, будто бы я не знал ее вовсе. Да ведь это, собственно, так и было. Когда надвинули крышку и стали заколачивать гвозди, мне захотелось отвернуться, но я заставил себя смотреть — словно бы в наказание. Я почувствовал, что меня подмывает засмеяться или закричать, потому что я представил черноту гроба, черноту, в которой осталась Татьяна. Лика догнала меня и что-то спросила. Я не понял, но кивнул: какая разница, о чем она спросила, но тогда я обрадовался ее словам и голосу. Она вернулась к матери Татьяны, а я забился поглубже на сиденье и обхватил руками поручень. Люди медленно подходили, и вскоре мы поехали...
Петушок остановил меня в коридоре и спросил, не требуется ли мне отпуск. Я ответил, что не требуется, и он понимающе помолчал, слегка покосившись на дверь своего кабинета. Надо было ждать приглашения зайти к нему для беседы.
— Без работы сойду с ума, — зачем-то добавил я.
— Понимаю, — живо кивнул он. — Работа у нас на первом месте, это уж — да!
И отвел глаза, почувствовав, наверное, что все остальные слова ничего не значат.
— Я всегда готов помочь. Как там, кстати, твой командир?
— Нормально. Что с ним будет!
— Разумеется, — согласился Петушок и скривил губы так, словно бы ему неприятно было спрашивать о Рогачеве — Ты не подумываешь уходить от него?
— Напротив, очень за него держусь, — ответил я, понимая, что интересует Петушка.
Он искренне удивился и сказал, что Рогачев странный человек. Я молчал: не говорить же о том, что этот странный человек скоро будет сидеть в его кресле, а сам он превратится в простого командира.
— Но мы все не без странностей, — добавил Петушок и снова спросил: — Значит, работать с ним интересно?
Я ответил, что все, кому приходится сталкиваться с моим командиром, имеют редкую возможность научиться хотя бы чему-то в жизни, задуматься над многим, а главное, взглянуть на себя.
— Не это ли самое важное? — закончил я, взглянув на удивленного Петушка.
— Возможно, — ответил он не сразу и протянул мне руку. — Признаться, я не думал с этой стороны... Заходи как-нибудь, побеседуем...
Я ничего не ответил, и мы простились. Несомненно, Петушок о чем-то догадывался, да и не удивительно, ведь они с Рогачевым давно знакомы. Если вспомнить то, о чем рассказывала Глаша, то можно предположить, что Петушок готовил что-то Рогачеву... Думал я об этом недолго, пора было ехать на площадь Мира.
Мать Татьяны хотела отбыть, как это принято, девять дней, и просила прийти. Вчера Лика подождала меня в аэропорту после рейса и напомнила об этом. За эти дни она дважды приезжала ко мне, и всегда с таким настороженным видом, будто бы не надеялась застать меня в живых. Меня умиляло то, что она находила предлоги для появления, пыталась наводить порядок в квартире. Видать, она всерьез считала, что я осиротел и обо мне надо заботиться. Язык не поворачивался сказать ей, чтобы она не приезжала, но и терпеть ее было тяжело. Лика являлась как напоминание о прошлом, а к тому же раздражала меня своим напором, цепкостью и уверенностью в правоте.
Читать дальше