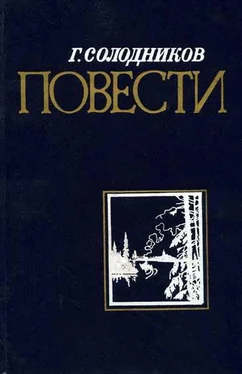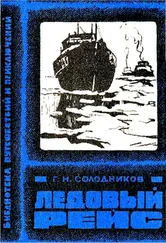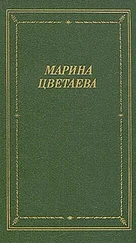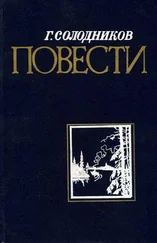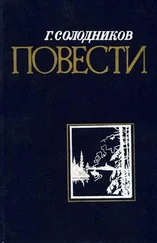— Господи! Прости и помилуй.
А я шел себе по середине дороги. Когда мать кидалась в сторону, я лишь останавливался, из озорства закрывал мокрыми ладонями глаза, а сам сквозь пальцы смотрел, как изменялось все вокруг под холодным сверканием молний.
В детстве я часто спал на сеновале. Уже в мае мы уходили с отцом на прошлогоднее сено под тяжелые тулупы. Сколько раз гроза будила нас по ночам! Раскалывалось небо. Вспыхивало так, что в крыше видна была малейшая, щель. Захлебываясь, клокотали под водостоками бочки. Постанывали на ветру деревья. А мне хотелось кричать в ночь что-то отчаянное, дикое.
* * *
Бушевала первая гроза в мае. На землю пал сильный ливень. Было темно. При свете молний вспыхивало кривое и бугристое от дождевых струй оконце. Я прошлепал по некрашеному полу к столу и закурил.
В распущенной рубахе, босиком, бородатый, я чувствовал себя очень свободно, гроза прорвала во мне какую-то запруду. Который раз уже бывает так со мной… В лесу я всегда стараюсь не вспоминать об опостылевшем городе. Думается: брошу все и пойду лесовать, забыв обо всех больших и малых благах.
И в общем-то все оказывается очень просто. Чем дальше мы уходим от природы, тем сильнее тянемся к ней. Настолько сильно в ней все материнское, первородное!
Как хорошо снова почувствовать себя ребенком!
Нигде так не нежусь по утрам, как в деревне у своих стариков. Здесь я по-прежнему сыночек, о котором непременно надо заботиться: накормить повкуснее, постелить помягче да укрыть потеплее. Мать перебирается на печь, уступая мне лучшую в доме постель — поржавелую кровать с провисшей сеткой, с матрасом, набитым трескучей осокой.
По мне — так слаще этой постели на свете нет. Особенно если я приезжаю один и несколько дней могу жить так, как мне захочется. Первый день после дороги валяюсь обычно до десяти, до одиннадцати часов, и никто меня не потревожит. Разве только отец. И то, если у него припасена бутылочка и ему станет невмоготу. Тут уж он поднимает и меня «за компанию».
Обычно я просыпаюсь от хриплого бормотания черного круга репродуктора. Он иногда так гнусавит, что ничего не разберешь. А то вдруг пронзительно запоет, заиграет, начисто заглушая все другие звуки и голоса.
До радио мои старики большие охотники. Если оно мешает мне и я выключу его, отец, придя с улицы, уже беспокоится:
— Мать! Радио-то у нас чего замолкло?
— Тиш-ш-ш, — шикнет она на него. — Работает он!
Давно я не был дома. Начало лета с рыбаками провел, потом — работа.
Наконец среди ночи я снова попал в родную избу и опять проснулся под позднюю утреннюю гимнастику. Потянулся на скрипучей кровати и замер с закрытыми глазами, прислушиваясь сквозь музыку и подсчеты к мерному покачиванию маятника и таким знакомым, родным голосам на кухне.
— Чем гостя-то угощать будешь? Пельмешков надо было нащипать или пирожки-скороспелки завернуть.
Отец только что пришел с дежурства, он сторож при ферме, и тетерь ему надо во всем разобраться, навести порядок. А мать и без того суетится возле печки, гремит чугунками, волнуется.
— Пельмени ему! А фарш ты наготовил? В субботу если к вечеру, когда соберутся все. А сейчас блинчиков завела, с молочком…
— Не едал он твоих блинов, — ворчит отец. — Какая это закуска?
— А грибы соленые? Сходил бы лучше за ними.
Отец вернулся быстро. Слышно, как он бренчит эмалированной тарелкой и вилкой.
— Это в пойло бросить, что ли? — спрашивает он.
— Совсем уже старый из ума выжил. Такую вицу корове! Листики ей оборви.
— Вицу, вицу! Смородина ведь, в рассоле лежала, отмякла.
— Где же она отмякнет? Палка она палка и есть.
— Всю жизнь ты выкомыриваешь. Да они еще не такие палки съедают. У коровы глотка-то… Вон у нас раньше отец нашел в желудке у ней портомонет. Бо-ольшой портомонет. Копеек пятнадцать медяками в ём было. Заглотила. А ты…
Всегда они так. Спорят, ругаются незлобно. Одни живут, только и поговорить-то между собой.
На какое-то время я задремал, убаюканный музыкой, и опять очнулся от голосов.
— Пробежали теплые денечки, и не заметила как. По малину толком не хаживала, все дела да заботы с коровой. Слава богу, кормит нас помаленьку… Вот и бабье лето подходит, а там, того и гляди, снег навернется. Опять зимушка, тоскливая да студеная…
— Да-а, бежит времечко, не ухватишься, — вторит отец. Но и тут ему все-таки надо возразить: — А снег что — до него еще не близко…
— И не говори; всяко быват… Вон в двенадцатом, кажись, году совсем рано пал. Мы и морковь еще не выдергали. Маленькая была, а помню. Вышла в огород — снегу толсто. Иду по тропочке — тятя, видно, прошел, смотрю: выглядывает из-под снега штуковина железная. Потрогала, а она как щелкнет и поймала меня. Ладно, в маминой кофте была, рукава-то длинные. Рукав мне и захватило. Дергаю — не пускает. Застыла вся, а реветь не смею: тяти боюсь. И из кофты вывернуться да убежать не догадаюсь. Ладно, мама хватилась… А это тятя капкан на зайцев поставил.
Читать дальше