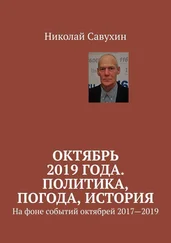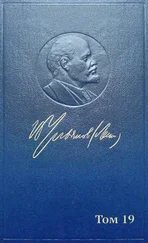Николай Сказбуш - Октябрь
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Сказбуш - Октябрь» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Советская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Октябрь
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Октябрь: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Октябрь»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Октябрь — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Октябрь», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Чтобы понапрасну не тревожить тетю-маму (Тимош по-прежнему всё еще величал так Прасковью Даниловну), он продолжал наведываться к соседскому студенту и делал даже кое-какие успехи в ученьи, отличаясь природной сметкой и завидной памятью.
У студента всегда было накурено, вечно толокся разношерстный народ.
При появлении Тимоша хозяин обычно выпроваживал эту публику, но бывало и так, что занятия проходили в присутствии всей честной компании.
Особенно запомнился Тимошу белокурый розовощекий студент Мишенька Михайлов. Узнав, что Тимош срезался на экзамене по закону божию, студент вызвался помочь ему и тут же принялся выкладывать такие божественные истории, от которых у мальчишки ум за разум зашел.
Как бы то ни было, подготовить Тимоша к экзамену здесь никто не мог. Учитель сам плохо разбирался и в ветхом и в новом завете, с трудом отличал бога-отца от бога-духа, из всех песнопений признавал лишь одно — «Налей бокалы полней».
Между тем подоспела осень.
На экзамене законоучитель задал Тимошу всего один вопрос:
— Когда бог был с хвостом?
Начальник училища опасливо покосился на батюшку и, достав из-под фалды сюртука большой клетчатый платок, принялся вытирать пот со лба. Преподаватель математики нервно забарабанил пальцами по столу. А батюшка, кротко и незлобиво поглядывая на экзаменующегося, обвел любящим взглядом присутствующих:
— В день сошествия святого духа на апостолов, сын мой. Когда господь явился им в виде голубя. Надо знать.
Много по этому поводу было впоследствии судов и пересудов, некоторые даже собирались в святейший Синод писать или в местную газету, возмущались, спорили, говорили — однако на том дело и кончилось. А мальчишку словно громом сразило — все предметы отлично знал, на божьем хвосте срезался!
Вскоре строптивого законоучителя перевели куда-то на повышение по духовно-казенному ведомству; Прасковья Даниловна вновь загорелась надеждой пристроить младшенького в техническое; Тарас Игнатович поговаривал уже о заводе, а Тимош всё еще пребывал между школой и заводом, проще говоря, на задворках, в прежней своей компании.
В те дни его видели то на левадке, то на «проспекте», с папироской в зубах.
Наконец, он попался на глаза Тарасу Игнатовичу. Молча прислушивался Ткач к мальчишескому спору, смотрел на карты и папиросы. Но когда Тимош закричал на товарища: «Ты кто такой! А ты знаешь, кто мой батько!?» — Старик не стерпел, схватил «младшенького» за шиворот.
— Пошел домой, подлец!
Дома он сказал Прасковье Даниловне:
— Вот — допанькался, старый дурак, — и погрозил жене, — ты тоже хороша!
Отвернулся, сел к столу, не глядя на Прасковью Даниловну.
— Ему в техническое держать, слышишь! — упорно твердила старуха.
— Нехай сначала в политическое держит. Я в его годы прокламации возил из Питера!
Долго они еще шумели, а Тимош лежал за печкой, уткнувшись носом в стену; минувшие дни, похожие один на другой, мелькали перед ним: ненужные драки, ненужная гульба, — сегодня поймали чужака с дальней окраины, вчера гонялись за девчонками, крутили им руки, одну прижали было к земле, но она вырвалась и убежала. Другая пришла сама, сидела близко, щипля беспокойными пальцами траву, но эта была непривлекательна именно потому, что пришла сама.
Что будет завтра?
Тимош искренне был привязан к семье Ткачей, уважал Прасковью Даниловну и Тараса Игнатовича и не хотел бы причинить им ни малейшей боли. Но у него самого болела душа. Он не понимал и не мог разобраться в том, что с ним творится — вот вдруг отрезали дорогу, нет ему пути. В голове назойливо и неотвязно вертелись слова священнослужителя:
«Раздай всё неимущим и ступай за мной».
«Возлюби ближнего своего, как самого себя…»
«Бог с хвостом!»
Тимош вскочил с лавки, увидел пристальные серые глаза — он ждал, что старик станет бранить его, побьет, проклянет, из хаты выгонит, но Ткач сказал только:
— Работать пойдешь! — И бросил жене, словно продолжая разговор: — Он на завод пойдет!
Тимош и сам не прочь был пойти на завод, но не так-то легко было переубедить Прасковью Даниловну.
— Успеете еще захомутать. Нашего брата, темного, и без того хватает.
В семейном споре потянулись дни, мало-помалу острота размолвки миновала, да и Тимош как будто образумился — сидит за книжками, к студенту бегает, снова «пифагоровы штаны» пошли в ход. А тут еще — всё одно к одному — поехали в лес за хворостом, лесничий разрешил валежник с половины расчищать, день выдался сырой, холодный. Тимош простыл, свалился, почти всю зиму прохворал. Весной вышел на солнышко — восковой, тоненький, словно жердочка. Глаза черные на бескровном лице так и горят, черный чуб небрежно спадает, и лоб от этого еще белее кажется. Глянет на него Прасковья Даниловна, сердце захолонет: личико девичье, улыбка девичья, а брови черные крепко над переносицей сдвинулись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Октябрь»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Октябрь» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Октябрь» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.