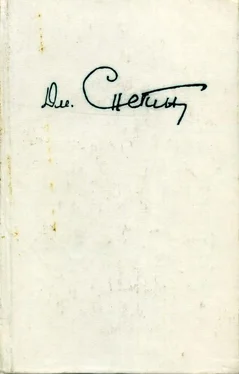Якубенко сел, достал из кармана обширных галифе бутылку рябиновой собственного настоя, попросил Райчу:
— А ну, птаха, подай нам посудинку, из которой пьют эликсир жизни, — и, когда появились стопки, аккуратно наполнил их агатовой жидкостью. Поднял. — С приездом!
— Я не пью, — отодвинул Илья рюмку.
У Якубенко поднялись брови.
— Да ну? — Он тут же, соблюдая осторожность, слил рябиновую из рюмок в узкогорлую бутыль. — Я по делу заглянул. От всей души посочувствовать, с одной стороны, с другой — дать некоторые замечания. У нас, у советских граждан, что на душе, то и на стол подавай, не носи камень за пазухой. А мы, тем более, фронтовики. Так вот, недоглядел ты, дорогой товарищ, за своим потомком. Выродок он у тебя получился не сам по себе, а по твоей вине. Поскольку у него мать померла рано, на отце двойная ответственность. Конечно, и коллектив, в котором ты вращался, несет определенную долю вины. Я это клоню к тому, что на твоих руках вот эта птаха. — Он повел бровями В сторону Райчи. — И мы, совхозные, за нее в ответе. Так что, мой долг сделать своевременное предупреждение. Вник?
У отца, как видела Райча, странно заблестели глаза. Он слушал, молчал. А потом вдруг вскочил и во внезапно воцарившейся тишине резко заскрипел его протез.
Райча не успела ахнуть, как отец распахнул дверь и замер у косяка. Якубенко не то что недоуменно, а скорее с любопытством наблюдал эту сцену, не понимая, что бы все значило. Холодный воздух сизыми клубами врывался в комнату. Райча звонко крикнула:
— Вы... пора убираться!
Только теперь до Степана дошло, что от него требуют. Он снял с вешалки полушубок, накинул на плечи и походкой человека, знающего себе цену и никогда не теряющего присутствия духа, проследовал мимо как бы переставшего жить Моисеева-старшего. Райча закрыла дверь и подняла на отца свои большие, темные, похожие на влажные сливы глаза. Он обнял дочь за плечи и так пошел к столу, протез скрипел натруженно и жалобно. Вдруг он покачнулся и упал на пол...
Хоронили Илью Моисеева на редкость солнечным, безветренным днем, напоенным смолистым запахом, исходившим от недальнего бора.
Когда возвращались с кладбища, неожиданно разрыдалась Лиля Валентинкина.
— Настоящих людей смерть косит, в тюрьмы сажают, а я никакой милиции не нужна!
Ее подхватили под руки Дожа, Батен, увели к себе. А я приютил Райчу. Она прислонилась к теплой печке, отчужденно смотрит, как я ставлю на стол из неприкосновенного запаса апорт, малину, протертую с сахаром, особой заварки чай. Отчужденно роняет:
— Уйду я из вашего совхоза... не могу здесь больше, не могу!
— Садись, Райча, успокойся.
Она ложечкой зачерпнула чай, обожглась, отодвинула стакан.
— Пускай остынет. — И после мучительной паузы. — А вы знаете почему расплакалась Лиля? Не знаете? Она страдает. Понимаете, ее подруга подделала документы с производства, чтоб поступить в институт. Подруга прошла по конкурсу, а Лиля нет. И выдала свою подругу. Теперь страдает. С одной стороны, как бы правильно поступила, а с другой — подло. Да вы не слушаете меня?
— Слушаю, Рая, слушаю.
— Нет, она не должна была допустить, чтобы подруга подделанные документы брала. Устыдить, повлиять. Лиля от досады, что сама не смогла поступить в вуз, разоблачила. А если бы попала, так промолчала, да? А разве это по-коммунистически?
— То прошло... она славная.
— Я тоже так думаю, — вздохнула Райча и надолго замолчала; ела яблоко, но едва ли чувствовала вкус. Глаза туманились, и молчаливые слезы текли по щекам.
— Ах, что будет с Ефимом?.. Нет, все равно мы уедем отсюда.
Я молчу. Можно неосторожным словом причинить боль, а так Райча будто во сне разговаривает, и ей в забытьи легче. Но вот она говорит такое, что мне, пожалуй, не смолчать.
— Сколько людей на земле! Вот вы, например, никаких геройских поступков не делаете, а около вас легко людям жить. А ведь у вас фашисты убили жену, сына.
— В жизни случается всякое... На-ко вот малинки живой отведай. Вот так.
Она равнодушно ест целебную малину и молчит, а у меня появляется возможность подумать. Да, вот такое пятнышко носит на своей трепетной совести Лиля Валентинкина. Открыться бы, а она страдает. И тяжесть все тяжелее, тяжелее, потому что всякую неудачу в жизни, не говоря об отвергнутой Ефимом любви, Лиля, конечно, объясняет своей непорядочностью. Может так статься, что тяжесть согнет, надломит дивчину. Попробуй тогда распрямись. Да, порой нескладно бывает с любовью. Ну что бы Игорю полюбить Лилю. Так нет, — он худеет, что видно всякому, от тоски по Федосье Ипполитовне... Ага, кто-то просится в дом.
Читать дальше