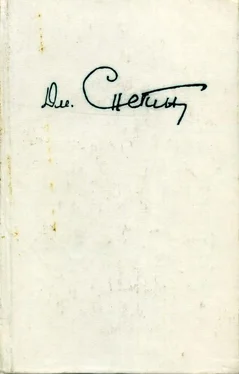Понимал — и не мог поступить иначе.
Минувшую ночь он не спал: было много раненых. Валентина Сергеевна и Фефелкина выбивались из сил, и он помогал им. В дом Гиммлера, где готовилась к наступлению штурмовая группа Сьянова, он пришел усталый. Ему сказали: с бойцами уже беседовали представители Военного Совета армии, политработники корпуса и дивизии, заместитель командира полка по политической части.
В подвале стоял гул — от людских голосов, от шарканья ног, звона оружия, Откуда-то тянуло банным паром. Возле окна сидели на полу бойцы и ели. Его окликнули. Берест узнал ефрейтора Ищанова, Столыпина, ординарца командира роты Васю Якимовича. Направился к ним. Солдаты встали, оправляя гимнастерки.
— Сидите, товарищи, сидите, — остановил их Берест.
— Просим к дастархану, немного кушать, товарищ старший лейтенант, — пригласил Дос Ищанов и опустился на пол, подвернув под себя ноги калачиком.
Алексей почувствовал голод.
— Не откажусь.
Якимович налил в кружку черного кофе, пододвинул лейтенанту ломоть хлеба с толстым пластом сливочного масла.
— Не эрзац, натуральный! — с гордостью сказал он.
Берест улыбнулся, поняв, что кофе раздобыт Васей для Ильи Сьянова и выдан друзьям лишь по такому из ряда вон выходящему событию, как предстоящий штурм рейхстага. Впрочем, в прижимистости Васю Якимовича обвинять было бы несправедливо. Он щедро делился всем, чем обладал, но после того, как полностью удовлетворял нужды своего командира роты. Понятно, за это Васю только уважали больше.
У всех бойцов были потные, блестящие лица. Видимо, у них случился оживленный разговор в бане, который продолжался и теперь, за аккуратно расстеленным, белым вафельным полотенцем, заменившим стол. По привычке — читать души бойцов — Алексей догадался: Столыпин чем-то недоволен. «Надо сказать Сьянову», — мелькнула в голове мысль, но Берест отмел ее. Какой же он политический работник, если сам не сумеет вернуть хорошее настроение солдату, зная, что настроение определяет и действия, и поведение в бою. Принимая вторую кружку из рук Якимовича, он, как бы между прочим, обронил:
— А почему наш помор не ест, не пьет?
— Сердитый, — недовольно бросил Ищанов.
— На кофе сердит? — усмехнулся Берест.
Митька Столыпин сонно посмотрел на своего командира отделения, на Береста, лениво процедил:
— Я, товарищ старший лейтенант, не привык кривить душой, как некоторые ефрейторы.
— Зачем про чужую душу говоришь? Свою открывай, — горячо возразил Ищанов, и по этой горячности Алексей догадался, что правда сейчас на стороне Столыпина.
— Святошами прикидываются, а сами не лучше, не хуже меня, — сердился Митька, и его густой бас срывался от обиды.
Якимович взглядом хотел урезонить расходившегося помора, помолчи, мол, не позорь нас перед старшим лейтенантом. Но Столыпин от этого взгляда еще больше распалился и даже скрипнул зубами.
— Хорошие зубы у тебя, должно быть, оттого, что ешь сырую рыбу, — как бы с завистью сказал Берест.
— Не сырую, а живую, — огрызнулся Столыпин и осекся, сообразив, что не имеет права так разговаривать с офицером.
Берест был занят кофе и не обратил внимания на выпад помора. Неловкую паузу поспешил прервать Ищанов.
— Вот — обиделся: зачем дали другим знамя, а не ему водрузить? Кантарии и Егорову доверие, а ему нет?
Столыпин взорвался.
— А ты... ты — не обиделся? Скажи честно!
Ищанов побледнел, и губы его стали землисто-фиолетовыми. Но смотрел он не на Митьку Столыпина, а в глаза Бересту.
— Честно надо сказать — обиделся. Сердцем. А голова знает: не надо обижаться. Твоя голова, Митька, не знает. Понял?
«Вот причина! — радостно подумал Алексей. — И хотя я догадывался о ней, мне все равно радостно, и я не стыжусь прихлынувших к глазам слез, не стыжусь нежности и любви, которую испытываю к бойцам. И горжусь ими, и счастлив, что они мои друзья, и я делаю с ними одно дело».
Ищанов заметил и блеск в глазах, и нежность в лице старшего лейтенанта и понял: не осуждает. Ему стало легко, вернулась привычная уверенность.
А Берест сказал:
— Честно признаться, я тоже обиделся.
У Якимовича от удивления округлились синие глаза. Ищанов застыл в неудобной позе, лишь у Митьки Столыпина вырвалось:
— Да вам-то на что обижаться? Вы же при знамени!
— А вот послушай: каждый боец, где бы он ни сражался, обиделся бы, если бы ему сказали, что он не достоин водрузить знамя Победы над рейхстагом. Ведь так?
Читать дальше