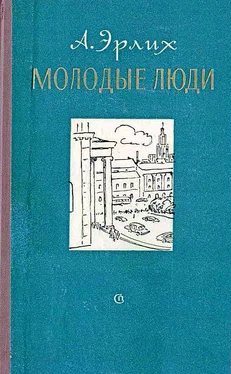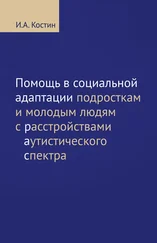Говорили мы о разной разности. И про тебя говорили, и про меня, о наших университетских делах, и о том, что происходит в твоих дальних краях.
А потом она подносит мне открытую коробку конфет — шоколадный набор, — дескать, угощайся. А ты знаешь, я не охотник до сластей. Конечно, благодарю, отказываюсь. Но она сама разворачивает трюфель, улыбается, сует мне в рот, как маленькому, и говорит: «Милые вы мои мальчики, так вы сильно обеспокоены, что я за вас совершенно спокойна». Она положила мне на колени свои маленькие, но такие крепкие, уверенные руки с тонкими пальцами и сказала ещё: «У вас у обоих заветный огонек в сердце. Смотрите, берегите его».
Были в письме еще несколько последних строк, в которых Толя, вдумываясь в слова учительницы, говорил о далекой ленинской цели, о том, что ленинский огонек в сердце — источник человеческой собранности и целеустремленности. Есть в человеке эта основа — и он деятелен, благороден, терпелив в испытаниях, честен в мыслях и поступках. Нет ее — и он эгоистичен, жесток, лицемерен, падок до всякой мерзости…
Прочел Алеша письмо друга и огляделся в комнате. Звенит тихонько гитара у Вадима — ничего ему на свете не нужно, кроме вот этих часов бездумного и беспечного отдыха. Уткнулся в книги Юра Самохин, — этот совсем из другого теста, минуют дни — добьется он своего, будет инженером. Обязательно будет!
Из коридора доносится все усиливающийся гул, слитные крики множества голосов: конечно, опять где-то день рождения! Ох, что-то уж очень много «дней рождения» в общежитии, — должно быть, празднуют ребята «и на Антона и на Онуфрия»…
— Кончил? — обрадовался Вадим, заметив, что Юра прячет книги и тетради в ящик тумбочки.
Гитара в ту же минуту зазвенела громче, носок башмака у Королева стал подыматься и опускаться в такт. Вадим дал волю голосу:
Мотор колеса крутит,
Под ним шумит Москва,
Маруся — в институте
У Склифосовскав-в-ва…
Юра с улыбкой вслушивался в новую песенку на мотив старинного мещанского романса «Маруся отравилась». В песенке девушка, обманутая и брошенная, с горя вонзила в себя «тринадцать столовых ножей». В институте «Склифосовскав-в-ва» двенадцать дежурных врачей благополучно извлекли каждый по ножу, а когда главврач собирался вынуть и последний, девушка закричала, чтоб не «цапали руками» и дали ей спокойно умереть. Труп бедной Маруси сожгли в крематории, и тогда вновь объявился соблазнитель, раскаиваясь, «в тоске и в горе» признался:
Я сам ей жизнь испортил,
И виноват я сам…
Прошу вас — пеплу в портфель
Отсыпьте четыреста грамм.
Юра от души рассмеялся, когда песенка была допета. Он поздравил Вадима с отличным пополнением репертуара. «Артист», пощипывая струны, дожидался и Алешиной похвалы. Но Алеша промолчал, с особой старательностью всовывая Толино письмо обратно в конверт.
— Да, песенка что надо! Только и она не каждому по сердцу, — огорчился певец. — Есть люди — шуток не терпят, юмора не чувствуют.
— Ты имеешь в виду меня? — улыбнулся Алеша.
— Да, похоже, что и ты из этой породы.
— Не сердись. Ну, не понравилось мне. Что тут сделаешь? Согласен, рифмы ловкие. А вот смысл твоей новой песенки неприятный, по-моему.
— Трудно тебе угодить, — после долгой паузы, переглянувшись с Самохиным, сказал Вадим.
— Пожалуй, и вовсе невозможно это, — поддержал Юра.
— Вон как! Почему же вы так вдруг отчаялись во мне?
— Почему? Потому что такая твоя позиция, — вызывающе ответил Самохин. — Потому что ты, неизвестно почему, держишься свысока с нами… Ну, если не свысока, то по крайней мере снисходительно… Разве не правда?
— Чушь какая! — Алеша с удивленной улыбкой поглядел на Самохина, потом на Королева в явной надежде, что тот защитит его от этакой несправедливости.
Но Вадим подтвердил:
— Совершенно верно. С самого приезда живешь на отшибе. Гордишься собой очень… Знай, мол, каждый сверчок свой шесток! А что живем вместе, так мало ли кого судьба сводит на целине в одной комнате.
— Да что с вами? Юра! Вадик! — взывал Алеша и потребовал, чтобы они в доказательство привели хоть что-нибудь, хоть один какой-нибудь пример.
— Глушков! — объявил тогда Вадим.
— Что Глушков?
— Презираешь. Видеть его не можешь. Даже голоса его не переносишь, так тебя и корчит.
— Ну и что ж это доказывает? Ну да, Глушкова я действительно терпеть не могу. Но при чем тут ты, или ты, Юра, или Володя Медведев?
Тут вспышка как будто угасла. Отчужденность перед Громовым покоилась на слишком тонких, прямому объяснению не поддающихся, основах. Юра и Вадик умолкли. Алеша, с укором вздохнул: «Эх, вы!» — лег на свою кровать.
Читать дальше