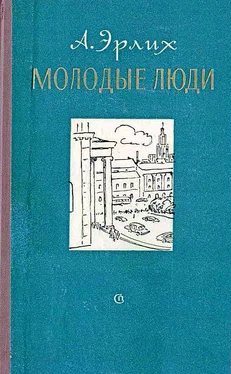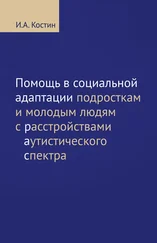Они быстро шли вверх по улице Герцена. Наташа, нарядная, в пестром шелковом платье, с такими же яркими, в тон платью, клипсами удлиненной формы, в черных, лакированных, с резко выступающими белыми рантами лодочках, с черной маленькой сумочкой, из-под застегнутой крышки которой теперь выглядывали Толины ландыши, говорила о своих нынешних счастливых заботах. Ужас! Потому что надо, хоть дух вон, в самый кратчайший срок пройти всю роль, вчерне, конечно… Вот почему она по телефону с Толей была такая странная, даже растерялась в первую минуту… А он не забыл об ее просьбе? Ей обязательно надо прочесть все-все о пушкинской поэме… Обязательно!
Уже показался вдали бронзовый Чайковский, уже пестрели на подступах к памятнику узенькие, с лирой — эмблемой, афиши, писанные от руки, с громадными яркими буквами.
— Наконец-то! — вскрикнула со смехом Наташа и остановилась. — Ну, подумать! — удивилась она. — Присматриваюсь, присматриваюсь к вам, ищу — да что же такого в вас нового? И только сейчас увидела: усиков больше нет!
Улыбаясь, он потрогал двумя пальцами бритую губу.
— Вы сами сказали — грубые они у меня… и еще какие-то, не помню, бесцветные, кажется.
— Да, да. И очень хорошо, Толя. Честное слово! Не надо никаких усов. Без них у вас такое милое, ясное, такое доброе, чистое лицо.
Вскоре они сидели в зале среди все прибывающей публики. На подмостках с гигантским органом, с расставленными для оркестрантов стульями и пюпитрами было еще пусто.
Толя протянул Наташе письмо, полученное им третьего дня от Алеши. Она попросила прочитать вслух.
Толя принялся читать вполголоса. Головы их клонились друг к другу. Несколько раз чтение прерывалось, Наташа оживленно комментировала некоторые подробности, высказывала свои догадки о недоговоренном, скрытом между строк, а то просила повторить какую-нибудь фразу — и тогда с особой настороженностью вдумывалась в каждое слово, даже глаза щурила, точно следовала воображением в далекий, избранный Алешей для новой жизни край.
Пробирались к своим местам, тесня им колени, новые зрители. Случалось, у самых лиц, клонящихся к письму, возникала чья-нибудь рука, проплывало запястье, охваченное браслетом, или покачивалась какая-нибудь сумочка, затейливая, в виде замшевого мешочка, обшитая узорами из цветистых нитей бисера… Сумочка тут же исчезала, но еще долго после пахло острыми духами.
— Мы напишем Алеше, не откладывая! — решительно заявила Наташа. — Все втроем! — строго распорядилась она. — Слышите?
— Втроем? Но Коля… Коле сейчас не до того.
— Почему! Ах, да! Вы, кажется, сказали, что у него несчастье в доме? — озабоченно вспомнила она.
— Большая беда в семье. А тут еще крупные неприятности в университете: Коля и ботанику и математику еле-еле на тройках вытянул, стипендии лишился.
— Коля Харламов? Не может быть… Но ведь он всем вам… он всегда лучше всех вас учился! Золотая медаль!
— В школе. А в университете, оказывается, наш Коля жидок на расправу.
— Нет… Вы шутите!
Но он нисколько не шутил, сказал, что считает провал Харламова делом вполне закономерным и даже неизбежным. Верно, талантливый он человек, но очень беспечный, удивительно легкомысленный. Да, ум у него яркий, веселый, Коля способен восхитить иного случайного собеседника. Но без всякой дисциплины, издавна развращенный легкими победами, он пасует перед настоящими трудностями. Золотой медалист! Да, в средней школе он шутя схватывал начальную премудрость и мастерски пускал пыль в глаза. А вот в университете…
Внезапно послышалась с подмостков спутанная разноголосица настраиваемых инструментов. Наташа и Толя, заговорившись, не заметили, как с двух сторон хлынули оркестранты к своим пюпитрам, как, отбрасывая фалды фраков, усаживались они, прилаживаясь перед раскрытыми нотами, и вдруг все разом начали пробовать свои скрипки, валторны, виолончели, фаготы, флейты, трубы.
Толя предупредительно улыбнулся Наташе, и она поняла: больше никаких разговоров, даже про Алешу.
Какие-нибудь две-три минуты спустя пробирались сквозь чащу пюпитров к своим местам дирижер и солистка, на ходу кланяясь встречающей их хлопками публике.
Пианистка уселась поудобнее за рояль с высоко поднятой крышкой — худенькая и слабенькая на вид, в белом платье без рукавов, очень длинном, так что подол его раскинулся от сиденья на полметра, с туго причесанными темными волосами. Зачем-то она вынула платочек, легонько помяла его в руке и снова спрятала. Теперь, положив руки на клавиши, она всем существом своим вопросительно устремилась к дирижеру. А тот уже повернулся на своем возвышении лицом к оркестру, машинальным движением оправил слегка выступающие из-под рукавов фрака манжеты, взял с пульта палочку. Руки дирижера еще были опущены, но едва приметно он кивнул солистке — и тотчас зазвучали первые такты рояля: удар, еще удар, еще и еще, с каждым разом все сильнее, все властнее… Руки дирижера приподнялись, локти его круто выставились в стороны, палочка пришла в движение, — и вот уже в дело вступил оркестр всем слитным многообразием своих голосов…
Читать дальше