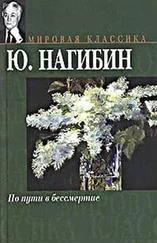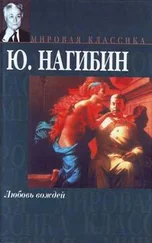Он поглядел насмешливо.
— Жанна ничего не скрывает. Зачем ей делать из меня дурака? Я этого не заслужил. Мы всегда были честны друг с другом.
— Честнее было бы расстаться, — услышал я с удивлением голос старого моралиста, вдруг вселившегося в меня.
— И швырнуть кошке под хвост четырнадцать лет жизни? И любовь, и семью, и благополучие детей? Мы пережили столько трудного: нужду, болезнь Жоржа, мои сумасшедшие влюбленности, со всем справились, а сейчас разжать руки? Ну нет… Я делаю все, чтобы сохранить Жанну, не дать ей забыть меня, отвыкнуть…
— А тот человек?
— Я его не знаю. Он старый холостяк и вроде бы не собирается терять свободу. Много старше меня, совсем седой, но Жанне хорошо с ним, и это главное.
— Главное — для кого?
— Для Жанны, разумеется. Бедная девочка, за тринадцать лет не поцеловать ни одного мужчины. Вы понимаете, я сделал ее женщиной, но пробудилась она только сейчас. Я рад за нее. В этом есть вечная правда жизни!..
Мне хотелось понять, что в рассуждении Жака идет от живого чувства, а что от «лукавца разума», но нам не удалось договорить — нас окликнула Жанна. Она тоже решила внести лепту в прощальный обед и вышла за корзиночкой клубники. Сейчас она пребывала в образе школьницы: никакой косметики, чистое свежее лицо, волосы расчесаны напрямую, вылинявшие джинсы и майка-безрукавка. Это было что-то новое и, наверное, наиболее годилось под отъезд Жаку…
А разговор наш мы продолжили на другой день по пути в Париж, куда продвигались со многими остановками не только у старинных замков, но и у всех винных подвальчиков. Жак был возбужден и счастлив. Жанна хорошо попрощалась с ним, поцеловала без напоминания, Флоранс вручила завершенную наконец-то поэму, прославляющую отца, а Жорж, чуть захлебываясь, прочел патетическое четверостишие.
Жак настырно крутил ручку радиоприемника, попадая то на венские вальсы, то на старинную лютневую музыку, то на скрипку Вивальди, но его возбуждение требовало иных звуков, и, оставив какой-то гавот, он добавил к нему ядреный рок-н-ролл Элвиса Пресли. В оглушительном шуме мы мчались от замка к замку, от погребка к погребку и, наливаясь местным, домодельным, терпким и легким вином, исполнялись все большей веры в будущее.
— Мне здорово не хотелось ехать, — признался Жак. — А сейчас я даже рад. Надо дать малышке Жанне немного свободы.
Мне казалось, что Жанна никак не может пожаловаться на недостаток свободы, но Жак был иного мнения.
— Ведь я давлю на нее просто своим присутствием. Она будет благодарна мне за короткое самоустранение.
— И вам все это по душе?
— Так вопрос не стоит. Это случилось, это данность, факт нашего существования. И положив руку на сердце нельзя сказать, что факт нежелательный. Рано или поздно Жанна должна была стать настоящей женщиной. И стала. Она расцвела, похорошела и безумно мне нравится. Наш брак выйдет из этого испытания окрепшим, а любовь — освеженной.
— Но ведь вы ревнуете?
— Конечно, ревную! — Жак повернулся ко мне и утишил музыку. — Откуда вы знаете? Кажется, я ничем себя не выдал?
— Я просто спросил.
— Ревность тоже естественное и по-своему прекрасное человеческое чувство. Оно делает жизнь горячей и богаче. Вспомните, без него не было бы «Отелло».
Он произнес это таким искренним и глубоким голосом, его концепция жизни была так крепка, цельна, округла, будто тронутое морозцем антоновское яблоко, что я ощутил другое естественное человеческое чувство, которое все же не решаюсь назвать «прекрасным», хотя именно оно, жгучее, ядовитое чувство Яго, в основе шекспировской трагедии, а ревность — вторична, — я ощутил зависть.
Быть настолько защищенным от жизни, от ее самых больных ударов, от самых невыносимых терзаний несложными построениями, обретающими в душе, выдрессированной снисходительной и удобной этикой многих поколений соглашателей, непреложную и освобождающую силу закона, — этому остается только завидовать. Впрочем, чему тут удивляться? Разве не описал все это в костюмах и декорациях иной эпохи Ф. М. Достоевский в своих гомерически смешных парижских очерках «Зимние заметки о летних впечатлениях»? Его великолепно приладившиеся друг к другу Мабиш, Брибри и Гюстав — чем не сегодняшний треугольник? У Достоевского глубокий аморализм буржуазной семьи изображен беспощадной кистью сатирика, в чем никто не мог соперничать с самым трагическим писателем мировой литературы, в жизни все выглядит мягче, человечней, но суть-то одна.
Читать дальше