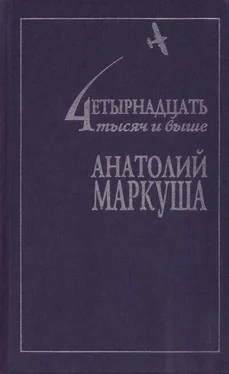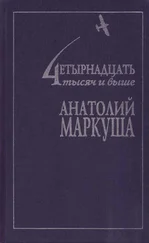— Ну, хорошо, согласен, ты говоришь, что тепловые электростанции более рентабельны и более экономичны, чем гидростанции. Возможно. Тебе виднее. Тогда почему полгода назад ты утверждал, что нет ничего лучше гидросооружений, хотя капиталовложения окупаются в них несколько дольше, чем в других станциях? — спрашивал Виктор Михайлович.
— Я и сейчас не отрицаю, что с точки зрения чисто инженерной, гидростанции имеют ряд неоспоримых преимуществ. Но одно дело — инженерный расчет, и совсем другое дело — государственные решения в масштабах такой страны, как наша.
— Подожди, — не успокаивался Виктор, — как же ты, инженер высокой квалификации, допускаешь мысль, что государственные решения вроде бы не твоего ума дело?
— Ничего подобного я не говорил. Это уж твоя вольная интерпретация…
— Какая, к черту, интерпретация? Ты на глазах у меня изменил точку зрения вопреки убеждениям. Ничего себе будет жизнь, если все станут действовать подобным образом! Я не хочу произносить громких слов, а то бы…
— Можно подумать, что ты действуешь иначе!
— Конечно, иначе. Я могу изменить взгляд на вещи, но не потому, что мне велели, а потому, что жизнь, обстоятельства, расчеты убедили в такой необходимости…
— Тебе легче быть независимым. Ты же фигура, авторитет, герои.
— Не говори чепухи. Во-первых, я не родился героем, во-вторых, положение, авторитет, звание — вовсе не критерий в таких вещах. Когда еще Пушкин писал: «Только независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы»? Больше ста лет прошло…
В конце концов Виктору Михайловичу надоедало вести подобные разговоры, и он подолгу не ездил к Азе. Мужа ее за глаза Хабаров всегда называл по фамилии — Кондратьев. И как-то после очередного общения с ним сказал матери:
— Уж лучше бы этот Кондратьев дураком был. А то ведь неглуп, и хитер, и скользкий, как угорь. Не понимаю, что, Азка совсем, что ли, слепая, если не видит, с кем живет?..
Машина притормозила у дорожного указателя.
— Ну вот, Анна Мироновна, до поворота докатили, — сказал Рубцов, — осталось одиннадцать километров. — Враждебно глянул на корявую проселочную дорогу, неумело перекрестился и сказал: — Пронеси, боженька, не дай застрять рабу твоему Василию…
Она не ждала этого, и главный врач не ждал. Ему стало внезапно хуже. Снова боли и снова тревога…
Сдерживая огорчение, не давая разгуляться нервам, записывала:
2 апреля. Состояние больного ухудшилось. Появились боли в правой икроножной мышце, отечность правой стопы. Пульс на артериях нижних конечностей отчетливый. Живот мягкий, безболезненный. Не исключена возможность начинающегося флеботромбоза. Больному начато лечение антикоагулянтами…
Кровь… кровь… надо следить за кровью. Через каждые два часа у него берут кровь из пальца.
Все правильно, но как объяснить человеку, в чем дело? Как успокоить? Как сохранить на своей стороне…
Впрочем, он сильный, и умный, и терпеливый…
И все равно жалко, что нет бога и нельзя надеяться на всесильное вмешательство, на его милосердную помощь.
Трое в схватке: больной, врач и болезнь. Смотри, не упусти его.
Кровь, кровь, кровь… Сейчас нет ничего важнее.
Клавдия Георгиевна вошла в палату легким, неслышным шагом, взглянула на Хабарова, насторожилась. Не понравились глаза — блестели, и вид у Виктора Михайловича был утомленный, невыспавшийся.
— Что беспокоит? Боли?
— Нога вот расходилась — тянет… И сны замучили.
Стараясь скрыть разом наполнившую ее тревогу, Клавдия Георгиевна спросила веселым голосом:
— Ну и какие же сны нас мучают?
— Странные сны, доктор. Сначала я стрелял по самолетной тени. Низко-низко, над самой степью летел самолет, а я заходил сверху, догонял и вел прицельный огонь не по машине, а по тени. И вроде бы тот самолет, что отбрасывал тень, пилотировал Сашка Збарский, и мы все время переругивались по радио. Он, собака, противным таким голосом требовал, чтобы я лез пониже к земле.
Я кричу: «Если так дальше пойдет, высоты на выход (из пикирования) не хватит!» А он смеется: «Ничего, зато контрольные снимки будут о'кей!» И, представляете, сам тоже снижается. Я атакую и тяну, аж холодный пот прошибает, вижу, нет высоты… А скоростенка — под тысячу! Все-таки вылезаю, и земля, когда я проношусь на каких-нибудь пятнадцати-двадцати метрах, так и рябит, так и рябит в глазах…
А Сашка кричит: «Молодец! Разрывы легли точно по центру», и прибавляет кое-что еще… Ну, что именно, я уж опущу, поверьте на слово — весьма убедительное.
Читать дальше