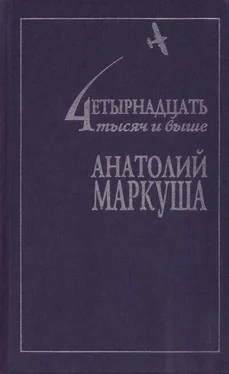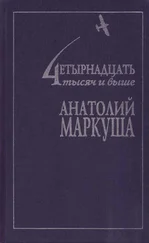Виктор Михайлович поговорил еще с техниками, обслуживавшими тренажер, и, не дожидаясь, покуда обработают пленку (весь эксперимент фиксировался самописцами и кинокамерой), пошел в летную комнату.
Хабаров еще не успел переодеться, когда дежурный вахтер вызвал его в коридор. В Центре существовало неписаное правило: в комнату летного состава допускались только свои. А в коридоре Виктора Михайловича ждал посторонний.
— Слушаю вас, — сказал Хабаров, вглядываясь в молодого старшего лейтенанта. Парень выглядел лихо — франтовато сшитая форма, сияющие пуговки, свежие, без единой помятины… погоны, новые знаки различия.
— Я с восемьдесят четвертой, — сказал старший лейтенант, — моя фамилия Блыш. Пришел лично спасибо сказать и все такое…
Виктор Михайлович протянул руку летчику:
— Хабаров. Пожалуйста. Да, а почему вы все-таки не открыли фонарь?
— На этой заразе как откроешь, так все с улицы в морду тянет…
— Ясно! Опасались, значит, парад нарушить? — и летчик сделал неопределенное движение рукой, как бы оглаживая новенький мундир.
Старший лейтенант смутился.
— Понимаете, я эту гробину перегонял к вам из Рощинки — ее тут переделывать на какой-то стенд будут — ну и подумал: «Хоть оторвусь в культурном центре», вот и махнул в таком виде. Чехол под задницу, сам в параде. Лететь-то всего двадцать минут.
— Как же тебя без парашюта выпустили? — удивился Хабаров.
— А никто не заметил. Я пока рулил, сиденье пониже опустил. Плечи за бортами и лямок не видать.
— Силен орел. Блыш?
— Так точно, старший лейтенант Блыш Антон Андреевич. А вы?
— Что я?
— Ну, Гайка — это, так сказать, псевдоним, Хабаров — фамилия, а остальное?
— Виктор Михайлович.
— Вольнонаемный, что ли?
— Почему? Прикомандированный. Полковник. Блыш смутился.
— Если я что не так сказал, прошу прощения, товарищ полковник. Не знал. И вы учтите — главное, поблагодарить вас хотел. Извините, пожалуйста.
— Слушай, Антон Андреевич, мне тебя извинять не за что, а вот она может в другой раз и не простить. Она накажет.
— Виноват, товарищ полковник, не понял: она — это кто?
— Земля, Антон Андреевич. Земля всех берет: и младших, и старших лейтенантов, и полковников, и генералов. Ей на наши регалии наплевать. Ну ладно. Если не спешишь, подожди — я сейчас переоденусь и подброшу тебя в город.
Когда четверть часа спустя они выходили из летного домика, старичок, дежурный вахтер, спросил Хабарова:
— Никак брательник к вам прилетел, Виктор Михайлович?
— Почему ты решил, Васильич, что брательник? — спросил Хабаров и улыбнулся старику.
— Больно они на вас похожи.
— Вот и не угадал — не брательник он, а племянник.
— Ну-ну, все одно родня. Кровь, она себя оказывает. Как ни крути, не спрячешь, — и старик почтительно распахнул перед летчиком выходные двери. — Счастливо вам. Со свиданьицем!
Хабаров откозырял вахтеру и уже на улице сказал:
— Золотой старик, тридцать лет провожает и встречает ребят из каждого полета. Знатный дед и первый в мире болельщик авиации.
Блыш вежливо кивнул головой.
Небо блеклое, светло-серое, низкое. Не картина — загрунтованный холст. И края нечеткие, размытые: то ли есть горизонт, то ли нет — сразу не скажешь. Небо спокойное, сонливое, словно и неживое. Не встряхнет, не ударит, не закачает на невидимой воздушной волне. Только ослепит, если с ходу врежешься в его безликое, слоистое тело. Окутает прохладным, влажным, косматым туманом и сразу заставит позабыть, где верх, где низ, где право, а где лево…
Ни одна птица не летает в слоистых облаках. Сделает взмахов десять — и валится в неуправляемом падении к земле.
Человек летает. Летает по приборам, которые он изобрел, вырастил, приручил, в которые сумел поверить больше, чем в самого себя.
Уходя в низкое, неживое небо, пилот везет на остриях приборных стрелок скорость, высоту, курс, величину крена и направление на радиопривод; везет с собой крошечный силуэтик покачивающегося, то поднимающегося, то устремляющегося к земле самолетика, приживленного к искусственному горизонту.
Верь стрелочкам, слушайся самолетика, не пытайся несовершенными своими чувствами корректировать их строгий язык — и будешь на высоте, доберешься до самого солнца. Не поверишь — упадешь, упадешь, как большая глупая птица.
Мать стояла на балконе, когда Хабаров вышел из подъезда, уселся в свою черно-белую машину и, лихо развернувшись в тесном палисаднике, уехал. Мать помахала ему рукой и медленно пошла в комнаты.
Читать дальше