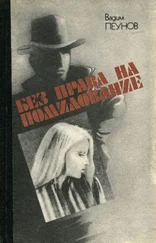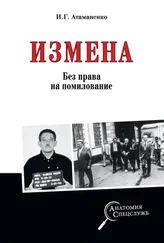Капитан заговорил с особым напором: — Как мне теперь с совестью своей поладить, Арсений Данилович? Я должен спасти Зуха. Посоветуйте, помогите! Нельзя ему умирать! Пусть меня накажут, пусть в рядовые разжалуют, отправят в штрафбат, только пусть его в живых оставят. Помогите… — капитан вдруг замолчал.
Упала короткая тяжелая тишина.
— Я вам без обиняков скажу, Руслан Сергеевич, — все так же не шевелясь, заговорил комиссар, — то, о чем вы просите… Такое только в книгах может случиться. Если бы книга закончилась чудом, о котором вы просите, читатель вздохнул бы с облегчением. Книга, если в ней чуда нет, — мертвая книга. А здесь… — Он вдруг вскинул голову, прислушался к отчетливым артиллерийским раскатам и кивком показал вокруг. — А здесь — жизнь. Здесь война. И свои суровые законы. Я наверх шифровку послал, просил изменить приговор. Ответ должен прийти в течение двенадцати часов. В семь тридцать конечный срок. А сейчас, — он посмотрел на наручные часы, — четыре. Будем ждать. Если ответ придет благоприятный — можно считать, что случилось чудо. Кто знает…
Поняв, что разговор закончен, комбат попрощался и вышел. Комиссар Зубков остался сидеть на нарах, все так же обхватив колени руками, и лишь качнулся несколько раз. Пламя коптилки вытянулось вслед капитану, затрепетало, словно хотело увязаться за ним. Какие–то тени пробежали по палатке. Должно быть, тень комиссара, ломаясь, замельтешила по брезенту.
— Разрешите? — послышался робкий голос. Отрешенно сидевший Арсений Данилович вздрогнул.
— Разрешите? Лейтенант Байназаров.
Снова нахлынула тревога, и комиссар с раздражением сказал:
— Что вы все ко мне за полночь, как к гадалке, тянетесь? Ночью человек спать должен. Завтра не праздник.
— Да, не праздник.
— И что же? — Зубков, резко повернувшись, спустил ноги с нар. На ногах белые шерстяные носки. Интересно: кто же ему связал их?
— Товарищ комиссар! Я завтра должен командовать расстрелом сержанта Зуха. Я не могу отдать такого приказа.
— Почему?
— Я еще ни одного фашиста не убил, даже еще не стрелял в него. Почему же я с самого начала должен своего убивать? Я это не могу. Поручите другому. — Откуда пришла к Янтимеру такая решительность? Голос звучит твердо, повелительно даже.
— Значит, для тебя это тяжело? — слова «тебя» и «это» Зубков сказал с нажимом.
— Тяжело. Язык не повернется, рука не поднимется.
— Стало быть, для те–бя э–то дело — постыдное, грязное? — со злостью сказал комиссар. Правота лейтенанта, собственное бессилие вывели его из себя.
— Постыдное, грязное, кровавое, — упрямо повторил Янтимер.
— Ты кто, лейненант Байназаров?
— Я? Я…
— Ты командир взвода разведки! Ты получил задание, а ты это постыдное, грязное, кровавое на другого спихнуть хочешь. Другие, по–твоему, безжалостные и бездушные? Так, что ли? — Комиссар помолчал и сказал, уже тише: — А мне каково? Мне, думаешь, легко? Приговор вынесен. И в исполнение его приводишь не ты один — и я, и комбриг, и командарм. Пойми! Он де–зер–тир — на полном основании считается таковым! Если бы каждый, кто хочет, брал военную технику и мчался сломя голову на любовное свидание? И без того бригаду лихорадит, чепе за чепе, — последние слова, должно быть, он сказал, чтобы уверить и утешить самого себя. Немного помолчав, он снова повысил голос:
— Белые перчатки запачкать боишься, лейтенант?
— Чего боюсь, и сам не знаю, товарищ комиссар, но боюсь… — И Янтимер вдруг привел довод, которого и в мыслях не было, странный довод, похожий на уловку. Если бы этот довод вышел из уст, скажем, Лени Ласточкина, было бы понятно. Но то, что эти слова сорвались с языка лейтенанта Байназарова, не лезло ни в какие ворота. Не моргнув глазом, он заявил: — Мне ведь, товарищ комиссар, когда вернусь, артистом надо стать. А меня потом всю жизнь совесть будет мучить.
Комиссар молчал. То ли вдруг задумался, то ли был изумлен такой глупостью. Но потом с той же категоричностью подвел черту:
— Прежде чем стать артистом, лейтенант Байназаров, тебе надо стать солдатом. Солдатом! Нам уже не завтра — сегодня в бой. В беспощадный бой с фашистами! Ступай, и нечего слюни распускать, — И это сказал человек, который в Подлипках после концерта при всем народе назвал его «пламенным трибуном». Такого жестокого отпора Янтимер не ожидал. И сразу сник.
— Значит, идти? — сказал он, опустив голову.
— Идти… — В голосе комиссара невольно проскользнули горечь и жалость.
Читать дальше