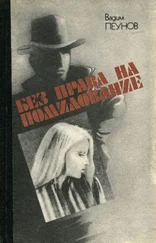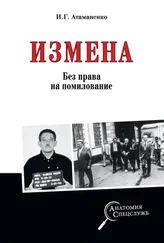— Ну, говори, скажи что–нибудь еще. — Она все так же, с усмешкой смотрела на парня, вертевшего в руках огрызок яблока.
Но Любомир Зух, первый балагур батальона, который перед девушками стрижом носился, соловьем заливался, — застыл, что истукан. И застынешь, когда перед тобой этакая колдов–ка стоит. Многих парней Мария Тереза одним посверком насмешливого взгляда вгоняла в тоску. Им тоска — ей ожидание. Ее сердце суженого ждало. И вот она вышла из тени и стоит, беззащитная, на открытой поляне своей девичьей судьбы. К тому же сама в него красным яблоком бросила. И яблоко огнем обожгло грудь Любомира Зуха. И нет прежней беспечной удали — вся пропала. Стоит сержант и улыбается. Но разве это улыбка? Просто рот разинул от удивления.
Посреди огнем выжженной, слезами омытой, любовью обогретой, клятвами освященной подлиповской земли лишь в трех шагах друг от друга стоят они. И на двоих им тридцать семь лет. Что ждет их впереди? Даже подумать страшно.
Потом наступил вечер. Первый их вечер перешел в последнюю ночь лета. Все больше чувствовалась легкая стынь, какая бывает в начале осени. Летними утрами земля просыпалась сразу, вздрогнет и проснется, а теперь вяло, медленно выходит из сна. И звезды ночами падают реже, не кидаются, как прежде, друг за другом, очертя голову. Ясные, с тихим солнцем дни — и мы уже, дескать, остепенились — печь–палить не спешат. Везде спокойствие, во всем умеренность.
И в эту самую благоразумную пору неразумные Любомир Зух и Мария Тереза Бережная полюбили друг друга. И той же ночью, тридцать первого августа, народился тоненький месяц, всплыл и лег на бочок. Лег и, покачиваясь, поплыл сквозь зыбкие облака. Куда он, малыш, — куда отправился по этой глухой бескрайней вселенной? Заблудится, пропадет…
Они же, боясь коснуться друг друга, сидели на крыльце дома Бережных. Крыльцо это — большой плоский камень. Когда–то он лежал на улице, возле плетня. Однажды отец Кондратия, кузнец Егор, во хмелю, на спор притащил его и шваркнул сюда. Уже дважды перестраивали дом, а камень так и лежит здесь. Камни живут долго.
Еще ничего общего, чтоб на двоих только, у Любомира и Марии Терезы нет, — разве что вон тот народившийся месяц. Даже еще рука руки не коснулась. Но и самое великое счастье и несчастье начинаются с чего–то — молчания, жеста, слова. Сначала они долго сидели молча, потом Мария Тереза нащупала упершуюся в камень руку Любомира и легонько погладила. Любомир взял ее маленькую шершавую руку в свою ладонь, пожал осторожно. Рука в руке, пальцы пальцев кончиками коснулись.
Первый чистый, светлый миг, когда мужчина и женщина чувствуют телесное тепло друг друга.
Два чуда было в мире: в небе — только что народившийся месяц, на земле — только что народившаяся любовь.
— В Андалузии, наверное, такой же месяц, и свет так же падает на Гвадалквивир, — сказала Мария Тереза. Она еще днем, объясняя, почему у нее два имени, рассказала о своей далекой родине. А два — потому что в Испании часто к имени девочки прибавляют имя святой, в день которой она родилась. Так и к Марии добавили Терезу.
— Месяц там всегда против нашего дома стоял, — вздохнула она. — Знаешь, а ведь луна и по–испански «луна». Только чуть… — она улыбнулась, — чуть–чуть по–испански… луна.
Парень вдруг резко выпрямился:
— Мария Тереза! Знаешь что?
— Что, Любомир? — насторожилась Мария Тереза.
— Я, Мария Тереза, когда Берлин возьмем, я сразу… ну разве только перекушу малость, и сразу свою машину на Мадрид поверну. А там — на Андалузию! Потому что я… Я твою землю, Мария Тереза, от фашистов спасу! Потому что я, Мария Тереза, люблю тебя!
— Я верю, — качнулась она к нему. — Я верю, — прошептала она.
А чему верит — что любит или что спасет — не сказала.
Любомир обнял ее и мягко притянул к себе. Она чуть отклонилась, но из объятий не вышла. Так горячо было тугое тело под тонким платьицем — незнакомая доселе дрожь коснулась Любомира, он потянулся к ее губам. Она не отвернулась, но, уводя губы, запрокинула лицо:
— Не надо, милый. Страшно пока, я сама, потом…
— А сама говорила «верю»…
Мария Тереза погладила его по плечу, по лбу:
— Да вот, верю… Потому вошла в эти брови, — она ткнула пальцем туда, где сходились две густые Зуховы брови, — sejas cenidas*, и заблудилась.
* Густые брови (исп.).
— Мария Тереза! Ты никогда в этом мире не заблудишься, я не дам. Вот этим месяцем клянусь.
Страх у Марии Терезы недолгим был. Когда занялся рассвет, на этом же камне, обняв обеими руками за шею, она поцеловала Любомира и уткнулась ему в плечо:
Читать дальше