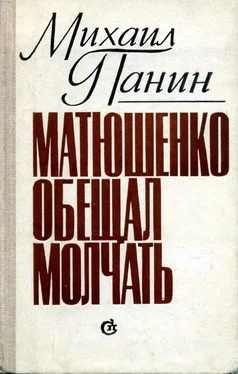Выслушав мой рассказ, Козлов долго молчал и не отрываясь смотрел на светившиеся на другой стороне улицы два окошка.
— И все же, — не поворачивая головы, сказал, он, — это звучит лучше — Солидол, вполне прилично...
Вдруг он крепко ухватил меня за руку и, чуть подтолкнув, увлек за собой через дорогу. Мы перешли улицу наискосок и остановились как раз перед окнами Гришкиного дома. «Тихо!» — в самое ухо прошептал мне Козлов, и я проникшись его волнением, тоже замер. Он стоял вытянув шею, и со странной улыбкой всматривался в занавешенные окна. Я тоже смотрел на окна, но ничего не видел. По-моему, там ужинали, иногда в глубине комнаты медленно скользила чья-то немая тень. Потом Козлов шепотом приказал мне: «Стой здесь!» — и, бесшумно отворив калитку, скрылся во дворе.
Я стоял и ждал. Я очень долго ждал и совсем замерз. Козлов не появлялся. Наконец с той стороны хаты, где была дверь, раздался осторожный, едва слышный стук, я ничего не понимал и все же почему-то затаил дыхание. Козлов постучал два раза и затих. Какое-то-время не было слышно ни звука, затем в хате послышались шаги, и тетка Галина, выйдя в сени, спросила — кто там?
Я забрался поглубже в тень, чтобы меня не увидели под чужими окнами, и в то же время силился рассмотреть сквозь плотную темноту, что делает Козлов во дворе у Гришки. Тетка Галина спросила еще раз — кто там? — и, брякнув щеколдой, распахнула дверь. Столб электрического света, прорезав темноту, упал в мокрый, черный сад, уныло шумевший на ветру. В соседнем дворе, проснувшись, залаяла собака, ей отозвалась другая, третья... Тетка Галина вышла во двор, постояла-постояла, оглядываясь по сторонам, — никого, и, зябко поеживаясь в одном платье, вошла в дом. Снова лязгнула щеколда, Козлов пропал.
Войдя в комнату, тетка Галина подошла к окну и отодвинула занавеску. Ей было не увидеть меня со света, но все же я спрятался за дерево и, высунув нос, видел, как она, приставив козырьком ладонь, пристально всматривалась в темноту. В глубине комнаты, под розовым абажуром с бахромой, сидели за столом заготовитель с Гришкой и ели праздничный пирог. Тетка Галина задумчиво тронула рукой монисто на груди и тщательно занавесила окно.
Немного погодя во дворе послышались осторожные шаги и появился Козлов, тихо прикрыл за собой калитку. Я вышел из-за дерева и подошел к нему.
— Вот и все, — сказал он. и с шумом выдохнул, словно вынырнул с большой глубины. — Все...
Он стоял, уронив руки, и улыбался.
— Все, земляк, пора нам с тобой прощаться. Значит, говоришь, милиция тут у вас недалеко?
— Недалеко, — сказал я. — Только там сейчас никого нет из начальства, дежурный сидит да его помощник, младший сержант милиции Павлюк. Он на нашей улице живет, вон там.
— Николай?
— Николай, — удивился я. — А вы откуда знаете?
— Я, брат, все знаю, — оглядываясь по сторонам, сказал он. — Яблоками пахнет, антоновкой... Не в службу, а в дружбу, проводи меня, земляк, к младшему сержанту милиции Павлюку, а то я тут, ей-богу, позабыл, где что...
Уже издалека он еще раз оглянулся на два теплившихся в темноте оконца, отошел подальше на дорогу, чтобы получше разглядеть, постоял (мне все казалось — он улыбался в темноте), надвинул поглубже фуражку, и мы свернули с нашей грязнущей Исполкомовской улицы на твердую, мощенную серым камнем-дикарем Черниговскую, ведущую в центр.
На ярко освещенном крыльце районного отделения милиции сидел помощник дежурного младший сержант Павлюк и, напевая себе под нос «О, мое солнце», прочищал шомполом наган. Рядом, на белой тряпочке, расстеленной прямо на ступеньке, лежали части разобранного револьвера, патроны россыпью, стоял пузатый металлический флакон с ружейным маслом.
Павлюк еще до войны был рядовым милиционером, три года воевал, вернулся с фронта с одной-единственной медалью и как ни в чем не бывало, только сменив форму, принялся снова охранять город. Когда его спрашивали, почему он заработал всего одну медаль, бог с ними, с орденами, но разве ему за три с лишним года так и не пришлось оборонять, брать или освобождать что-либо приличное, за что и ездовым дают медали, он скреб в затылке и, похоже, сам не понимал, как оно так случилось. А дело в том, что Павлюка ранило на фронте ни много ни мало — двенадцать раз, пять или шесть раз тяжело, он иногда по году валялся в госпиталях, побывал даже в санатории (в сорок втором году!), его оперировали светила медицинской науки, о чем свидетельствовали многочисленные рентгеновские снимки, справки и фотографии Павлюка с врачами, хранимые им в красивой коробке от пенициллина. Какие-то все редкие, интересовавшие науку случаи приключались с ним. И все-таки каждый раз он выздоравливал, догонял фронт, горя желанием наконец оправдать расходы на лечение, но пуля или осколок метили его в очередной раз, и все усилия врачей шли насмарку. Так он и пролечился всю войну. На нашей улице, где его прозвали почему-то Камрад, он слыл непререкаемым специалистом по всем лекарствам и болезням, включая женские. А свою единственную медаль «За победу над Германией» Павлюк не снимал никогда и вместе с нашивками за ранения носил ее как высший орден.
Читать дальше