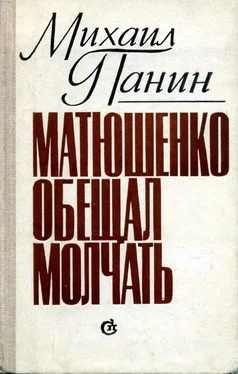И Козлов, разволновавшись, снова лег. Мы озадаченно молчали, мы запутались совсем, потому что была какая-то своя горькая правда в словах Козлова о Гришкином отце, как была своя, пусть жесткая, но правда в словах невоевавшего лейтенанта об отце Шурки — не надо было сдаваться.
— А кто ж его заставлял в полиции служить? — в наступившей тишине спросил у Козлова Гришка.
— Кто... — глухо отозвался тот. — Не пошел бы — расстреляли. Ладно хоть самого, а то ведь — и детей. Тебя вот...
— А хоть бы и расстреляли, — рассудил Гришка, — все равно это лучше, чем быть изменником.
— И тебя бы сейчас не было на свете...
— Все равно, — упрямо сказал Гришка. — Нам же теперь с матерью всю жизнь глаза колоть будут.
— Значит, говоришь, нет прощения твоему отцу?
— Я не прокурор.
— Ясно... А ты хоть помнишь своего отца?
— Зачем вам?
— Да так, интересно. Ну, какой он был: высокий, низкий, добрый, злой?
— А черт его знает! — пожал плечами Гришка. — Мне же сколько лет было? Пять. Помню, пришел он домой, переоделся в гражданское и по хате бегал. «Что делать? — говорит. — Наши рядом». А мать плакала и харчи ему собирала. Здоровый был, бугай...
— А больше ничего не помнишь?
— Больше ничего. Когда наши пришли, везде его шукали — в погребе, в сарае, все в хате перерыли. Дядько Павло Трембач матери сказал: найду — сам пристрелю, как собаку. Они с батьком до войны в одной футбольной команде играли.
— Играли... Он что, тут живет сейчас?
— Кто?
— Да этот... дядька.
— А где ж еще, банк охраняет. Ему руку перебило на фронте. Он потом матери помог на работу устроиться, ее не принимали никуда. При чем тут, говорит, она, если у нее муж — изменник.
— Вот как...
— А вам вроде его жалко?
Козлов кивнул:
— Все-таки человек был... Ну а мать не вспоминает никогда отца?
— Нет, не вспоминает. Хотя кто знает, все фотографии его спалила, а одну оставила. Он там в военном и с орденом...
Толик спросил:
— А у вас есть ордена?
Козлов сначала не расслышал, а потом машинально кивнул — есть.
— А почему вы их не носите? Все носят.
— Да так... Что вы заладили — ордена, ордена? Не в орденах дело.
Мы переглянулись: вот это да, не в орденах дело! А в чем же дело? Раз человек воевал, должны быть ордена, чем больше орденов, тем лучше он воевал, простая штука. Зачем тогда ордена существуют? Мы молчали и настороженно рассматривали такого необычного фронтовика. Тогда он вдруг вскочил и стал искать свой вещевой мешок, развязывать веревочки на нем, кивая головой, — есть, есть ордена! — словно боялся, что мы ему не поверим. Он вытряхнул содержимое мешка на солому и, порывшись в кучке белья и портянок, вытащил завернутые в тряпицу орден Отечественной Войны и три медали. И протянул нам.
— Вот мои ордена...
Мы сгрудились около него в кучу.
— Тоже не густо, — сказал Шурка.
— Не густо, — согласился Козлов. — Хотя старался...
— Нет, ничего, — разглядывая блестевший эмалью орден, сказал Толик. — «Отечественную Войну» не всякому давали, а только тем, кто непосредственно участвовал в боях. Нет, ничего, — успокоил он Козлова. — А в каких вы войсках служили?
— В пехоте.
— В атаку часто приходилось ходить?
— Часто.
Козлов опять спрятал свои награды в мешок и туго затянул узел.
— А почему вы не идете в гостиницу? — поинтересовались мы. — У нас только что отстроили гостиницу, «Астория» называется.
— Денег нет, — сказал Козлов.
— А зачем же вы нам отдали? Мы их потратили вчера.
Он махнул рукой.
— Ладно, не беспокойтесь, мне теперь деньги не нужны...
— А как же так, без денег? Вы в военкомат сходите или в милицию, там помогут.
— Да вот, собираюсь, — засмеялся Козлов. — О господи... Далеко тут у вас милиция?
— Не очень, на Садовой, где раньше сапожная была, мы вам покажем.
— Вот и хорошо. Если не возражаете, я еще сегодня у вас переночую.
— А что нам, живите сколько хотите, если не скучно.
— С вами не соскучишься...
Я предложил:
— А хотите, я вам. книжку какую-нибудь принесу? Будете читать.
Он пожал плечами и долго не отвечал, словно, прикидывал, насколько хорошо ему будет сидеть здесь и читать книжку.
— Ладно, неси...
Я пообещал обязательно забежать к нему вечером, и мы разошлись по домам.
Был второй день праздника, и с самого утра во многих домах на нашей окраине гуляли. Гармошки заливались на все лады, перебивая одна другую. В приземистых белых хатках под облетевшими уже пирамидальными тополями, сдвинув столы, уставленные холодцом, и хмельной вишневкой, пели старинные казачьи песни. Подуставших певцов время от времени сменял старенький довоенный патефон в хате у Миши Толочко́, шипя вконец затертой утесовской пластинкой: «...и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Завтра в поход...» А сам Миша, могучий двухметровый гигант, бывший комендор с крейсера «Красный Кавказ», лежал на кушетке, уставясь в потолок пустыми, выжженными глазницами. Немецкий снаряд угодил в башню крейсера как раз в тот момент, когда Миша, наводя пушку, смотрел в прицел.
Читать дальше