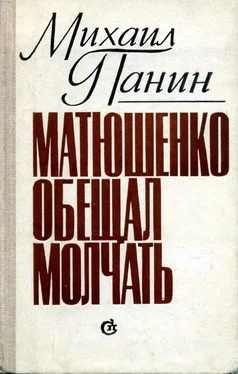— Все, все, пора спать. Виктория, отведи их в постель, разве не видишь — они устали.
— Слушаюсь, мой повелитель, — сказала Виктория.
Тетя Тама очень боялась, что кто-то не выдержит и рассмеется, скажет Гурскому нечто язвительное, насмешливое, злое, отчего у него вытянется светившееся довольством лицо, он сникнет, и она все время делала большие глаза то одной, то другой своей невестке, чтобы они молчали. Ведь нельзя никому запретить быть счастливым, зато очень легко можно помешать.
Вот и все. Хотя, думается, не лишним будет сказать еще вот о ком — о Галине. Она продолжает работать в школе. Говорят, она хорошая учительница, строгая и деловая, и ей уже предлагали место завуча в английской школе. Однажды Вадик видел ее в театре, она была одна, в антракте сидела в пустом зале, листала программку и, как показалось Вадику, была очень рассеянна. Он хотел к ней подойти, но не решился.
Однажды, прибежав с улицы и норовя опять поскорей смыться на улицу, давясь и обжигаясь супом, я задал матери вопрос: может ли родиться человек не через девять, как обычно, а через семнадцать месяцев после того, как его отец ушел на фронт?
Мать (она штопала мою рубашку), откусив нитку, молча посмотрела на отца. Отец, поверх газеты, на мать. За окном стайка моих приятелей, поджидавших меня, чтобы идти на речку, уже теряла терпение, и я подналег на суп.
— Через сколько месяцев, ты говоришь? — спросил отец.
— Через семнадцать.
— Гм... многовато.... А ты не скажешь, зачем тебе это нужно?
— Нужно.
— А все-таки?
— Нужно...
Последовала продолжительная пауза, в течение которой мои интеллигентные родители решали одну из деликатнейших педагогических задач. Затем отец, решив принять посильное участие в моем воспитании, отложил газету и с умным видом стал городить что-то об аисте, приносящем детей, как о птице в общем-то пунктуальной и дисциплинированной: девять месяцев так девять месяцев, но по случаю военного времени...
Я так прямо и сказал:
— При чем тут аист, папа? Я перешел уже в третий класс. Ты что, с луны свалился?
— Вот именно, — усмехнулась мать.
Тогда отец рассердился и сказал, что, раз я такой грамотный, он умывает руки, он всегда говорил, что улица до хорошего не доведет, и пусть на мой вопрос мне отвечает мама, она за свободное воспитание, да и к тому же лучше разбирается в таких вещах. И с треском развернул газету. А мать, помолчав, сказала, что это вопрос сложный и что она ответит на него лишь в том случае, если я все-таки скажу, зачем мне это понадобилось.
Естественно, я этого сказать не мог, и тогда пришлось обратиться за помощью к другим, не столь щепетильным и не мнящим себя великими педагогами людям. Одноногий инвалид Скляр, живший на нашей улице и что ни день гонявшийся с ремнем за своей ветреной супругой (они бегали вокруг дома, обзывая друг друга, она его — обрубком, он ее почему-то — люстрой), выслушав меня в редкую минуту трезвости, печально сказал, что такие случаи, увы, бывают. Довольно часто. В военное время — чаще, чем в мирное. Почему война так влияет на рождаемость, он не успел мне объяснить — как раз во двор вышла из хаты его жена Мария, бедовая, крепкая, как яблоко, молодуха, и Скляр, подозрительно спросив, куда это она настропалилась, взялся за костыль...
И я про себя решил: что ж, ясно — война, разруха, продукты плохие, вот и происходит задержка. Но сестра Шурки Иванова, Верка, она перешла уже в шестой класс, решительно заявила: такого быть не может, она знает, и в доказательство вынесла из дома потрепанную книгу, в которой обо всем этом было подробно написано. И мы окончательно зашли в тупик.
Дело в том, что мы не знали, как нам поступить с Вакой. На первый взгляд все было просто: отец Ваки, Иван Нетудыхата, погиб в сорок третьем году, летом, мы своими глазами видели «похоронную», которую принесли Вакиной матери уже после освобождения из оккупации. Погиб смертью храбрых, младший сержант, связист, похоронен в братской могиле под городом Орлом. Дома у Ваки мы видели его портрет — Иван Нетудыхата снялся вместе с Вакиной матерью Белкой в день их свадьбы. Он был молодой, с пышной кудрявой шевелюрой, при галстуке, многочисленных значках, красивый, как артист. И мать Вакина была ему под стать; чернобровая, в вышитой украинской сорочке, чуть склонив голову к плечу бравого Ивана Нетудыхаты, она печально улыбалась с фотографии, словно уже предчувствуя свою судьбу. Всегда о чем-то догадываются старые фотографии, потому что та женщина, которую мы знали, Вакина мать, совсем не похожа была на свой довоенный снимок. Худая, в обвисшем платье, растрепанная и суетливая тетка, она незаметно и непонятно чем жила со своим пятилетним сыном Вакой в самом конце нашей улицы, в глинобитной облупленной хибарке. Пугливо озираясь по сторонам, она иногда появлялась на улице то с коромыслом, неся воду от колонки, то с тележкой, собирала солому вдоль дороги на топливо, то с каким-нибудь узлом на спине. И всегда бегом, молча, увидит — идет кто-то по дороге, и быстренько свернет. Похоже, она и говорить-то разучилась, только кашляла. Кашляла страшно, приступами, подолгу держась за стенку или забор, но, с трудом отдышавшись, бежала дальше по своим делам. Она два года работала на восстановлении жестекатального завода, разрушенного немцами, потом в каком-то горячем цехе, и там, от недоедания и вредных газов, как говорили, у нее открылся туберкулез. Последнее время она уже не работала нигде, что-то продавала, меняла, собирала уголь на станции и вдоль железнодорожных путей, подолгу лежала одна в пустой хате и кашляла.
Читать дальше