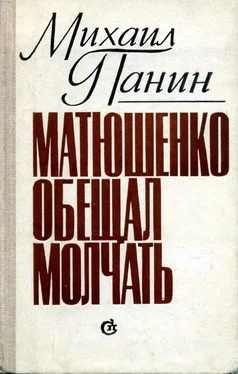Самохин подумал немного и согласился. Они, не сговариваясь, перешли улочку и тут же, наискосок от калитки — ее калитки, — перелезли через чей-то невысокий забор. В тени большого орехового дерева легли на траву. И стали ждать.
Ночь вступила в свои права — душная, тихая, без единого дуновения ветерка. Одуряюще пахло фиалкой. Скрипели цикады. Все окружала плотная темнота. Но потом взошел молодой месяц, и двое, сидевшие в засаде, воровато переместились подальше в тень.
Они ждали долго — до первых петухов... Здесь, на окраине, они, гады, горланили в каждом дворе, казалось, они знали о тайном присутствии чужих и, как часовые на вышках, настороженно перекликались.
— Надо смываться! — уже. в который раз сердито шипел Самохин. — Это ты втянул меня в это грязное дело. Пошляк, скотина...
— А ты сам-то кто?
— И я с тобой вместе. Но послушай, Виктор, где она так долго может быть?
— Тебе сколько лет?
— Скоро девятнадцать. А что?
— Большой уже, а спрашиваешь такие вещи.
— Пошел ты...
— Сам пошел.
— И тебе не стыдно? Ну что, что ты, в конце концов, хочешь увидеть?
— Я хочу увидеть в конце концов уверенного в себе человека.
— Что?
— Ничего. Можешь ты лежать спокойно?
Немного погодя Самохин опять заерзал.
— Я тебя понял, — буркнул он. — Но еще раз заявляю: ты — пошляк!
— А ты болван. Лежи тихо или убирайся.
Уверенного в себе человека они увидели в половине четвертого утра: двое медленно подошли к калитке. Это был Толик Гапон, нападающий местного «Локомотива», известный в городе драчун и бабник. Не такой уж и высокий, не такой уж и красивый, и тоже не брюнет. Но как она на него смотрела...
— Ариведерчи, — сказал Толик. И зевнул. — Живешь ты у черта на куличках. Теперь домой пилить два часа. А в девять — тренировка.
— Любовь требует жертв, — сказала она.
А он сказал:
— Точно!
И они тихо засмеялись.
— Ну, пока.
Послышались энергичные удалявшиеся шаги, сопровождаемые художественным свистом. Толик импровизировал на темы любимых мелодий Европы пятидесятых годов. Уже свернув на другую улицу, он, наверное, прикурил или еще что, потому что свист на время прекратился. Потом залаяла собака, и Толик, возобновив движение, чем-то на ходу в нее запустил. Бедная дворняга заскулила.
Затем все стихло.
Когда они одновременно открыли глаза, у калитки уже никого не было.
— Ну что, пошли? — сказал он с безразличным видом Самохину.
— Иди.
— А ты?
— А я, может, хочу умереть.
— Дело хозяйское. Не буду тебе мешать.
Он отряхнул брюки и перелез через забор. Было почти светло. Уже на дороге оглянулся: Самохин по-прежнему лежал, уткнув лицо в руки, похоже, ему и впрямь было скверно.
— Эй! — позвал он. — Ты что, серьезно? Вот чудак.
Он еще хотел сказать: не стоит плакать из-за такой дуры, — на кого она их променяла! — у них все впереди, вся жизнь, надо только стать уверенным, чуточку развязным, грубым — они теперь знают, каким надо быть с женщиной, чтобы она любила. Но он не сказал ничего — вдруг понял: это ему не удастся никогда. Никогда... И хотя что. хорошего в том, чтобы быть нахалом, — от обиды захотелось расплакаться.
Он ушел, оставив Самохина одного. Этот парень ему уже нравился, чем-то они были похожи, но не предлагать же человеку дружбу — после всего. После того, как он видел его слезы. Это лишь говорят, будто несчастье людей сближает. Черта с два... Наверное, несчастье сближает не всех, но тех только, кто держался в испытании молодцом, а это удается не каждому. Бывают, правда, и друзья-враги, невольные свидетели слабости или даже подлости друг друга, удерживаемые рядом памятью о лучших днях их дружбы. Но у них такой памяти не было. Прощай, Самохин. Ты еще найдешь себе друга.
С ней всякий чувствует себя сильным, удачливым и черт знает каким остроумным. Какой-нибудь захудалый Ваня, деревенский шут, пьянчужка и дурак, засмеянный собственной женой, завидев Машу на улице, поднимает от земли глаза и обретает даже некую молодцеватость.
— Маша! — орет он через дорогу. — Как жизнь?
— Ничего, Ваня, живу.
— Замуж еще не вышла?
— Не берут, — смеется она, прикрывая ладонью щербатый рот.
— Чё так?
— Да так...
— Нешто военные перевелись?
— Ладно, Ваня, — незлобиво отмахнется от него Маша и заспешит своей дорогой.
А Ваня оглянется по сторонам, выискивая зрителей для потехи, и кричит ей вслед:
— Маша! А, Маша! Что самое страшное в жизни? — и хохочет до слез, приседает от восторга и шлепает рукавицами по тощим коленкам.
Читать дальше