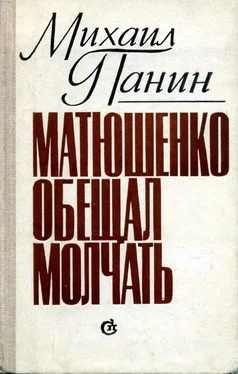Днем в работе некогда горевать было, а по ночам уже считать страшно: тридцать пять, тридцать шесть, где ты, лейтенантик?
А в пятьдесят пятом году в Чулковке появился Григорий Рудь. Никто, не видел, с какой стороны он вошел в деревню, худой, костистый, в резиновых сапогах выше колен, хотя на дворе стояло лето, в потрепанном офицерском кителе и с узелком под мышкой. Он прошагал через всю деревню и, словно в кармане у него была рекомендация, постучал прямо к Маше в окошко.
Всей деревней гуляли у Маши на свадьбе. Молодые встречали гостей на крыльце. Маша кланялась до земли, обмахивалась батистовым платочком.
— Милости просим, дорогие гостюшки!
Белое подвенечное платье, сшитое лет двадцать назад, лопнуло у ней под мышками, туфли на венском каблуке врезались в ноги, но Маша сияла от счастья.
— Мой жених, — представляла она Григория.
А тот, в новом костюме, в белой рубахе с галстуком, благоухающий «Шипром» и нафталином, длинношеий, с огромным кадыком, щелкал каблуками и наклонял голову:
— Григорий Павлович Рудь, лейтенант войск особого назначения, нахожусь в длительном отпуске, — и подмаргивал робевшим молодухам. За столом он сказал тост: «Чтоб все было хорошо и с желудками справно», — опрокинул стакан самогонки, заел холодцом с хреном и, зажмурясь от удовольствия, затянул хриплым басом: «Сижу на нарах, как король на именинах!..»
Когда завели патефон, Григорий чинно станцевал с Машей падеспань, два фокстрота, но потом забыл про Машу и до глубокой ночи отплясывал трепака с молодыми девчатами и, выманив какую в сени, лез целоваться. Уже через неделю после свадьбы (впрочем, записываться они не стали: «Потом», — решил Григорий) он заночевал у Фроськи Орловой, сельповской продавщицы, И вообще для молодожена вел себя довольно странно.
Но Маша таким оборотом дела вроде бы особенно не огорчалась, не ругала и не прогоняла Григория, а была, напротив, постоянно весела и как раз в ту пору стала останавливать на улице знакомых, а иногда и не очень знакомых людей, дачников, и всем задавала один и тот же вопрос:
— А знаете ли вы, что самое страшное в жизни?
— Много страшного на этом свете, — вздохнет кто-нибудь, — а что самое страшное...
— Не-ет, — перебивала Маша, — откуда знать вам! Откуда знать вам, что самое страшное в жизни — это когда у тебя муж красавец. Не приведи бог, и врагу не пожелаю.
— А что, у вас муж... красивый? — спрашивали дачники, рассматривая ее широкое красное лицо, тяжелые, большие руки и нелепый, не городской и не деревенский, наряд. Маша только и ждала этого вопроса. Она улыбалась во все лицо, мечтательно закрывала глаза:
— Красивый! Нос с горбинкой... Все-таки дождалась, двадцать лет ждала, а дождалась! Теперь повезет меня на Дальний Восток. — И она игриво потягивалась, как сытая, знающая себе цену женщина, уже слегка уставшая от любви и постоянного внимания мужчин.
Она каждый день торопила Григория с отъездом: без Дальнего Востока счастье было неполным, а ей хотелось вкусить полной чашей. Кончилось лето, к зиме неплохо бы и на месте быть.
— Квартира-то у тебя теплая? — интересовалась. — Не заморозишь молодую жену?
— Теплая, — морщился Григорий, припомнив барак в местах не столь отдаленных, где он отсиживал десять лет за дезертирство.
— А на каком этаже?
— На верхнем...
— Хорошо как, — радовалась Маша, — все видно будет!
В конце концов они собрались. Колхоз выделил телегу, на нее погрузили три кованых сундука с добром, фанерные, битком набитые чемоданы — двадцать лет коплено, — корзинки с харчами в дорогу, сверху сели Григорий с Машей. На Маше было плюшевое пальто, ботинки на высоком каблуке и пуховый оренбургский платок.
— К городу станем подъезжать, надену шляпу, — решила она.
За пазухой у нее были спрятаны деньги (и давний запасец, и то, что за дом и корову выручила).
С богом! Лошади тронули, Маша встала на сундуке, поклонилась односельчанам, хотела сказать слово — и заплакала. Прощайте, родимые, не поминайте лихом, в отпуск будем каждый год ездить, не забывайте! Лошади побежали бойкой рысью, вынесли за околицу и дальше, дальше. Вот уже избы еле видны, мелькнула речка под бугром, ветлы на берегу, двухэтажная школа. Прощай, Чулковка, прощай, деревня, сроду бы не бросила родимый край, да как жить без Дальнего Во стока!
А через неделю она пришла в деревню пешком, простоволосая, в изорванном ватнике с чужого плеча, сухими глазами, как слепая, глядя поверх голов. Шла вдоль деревни к бывшему своему дому, ежась под любопытными взглядами, направленными в нее из окон:
Читать дальше