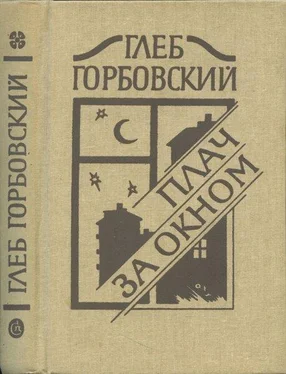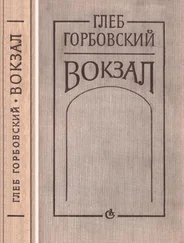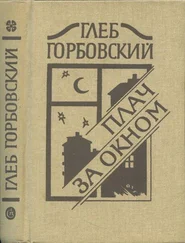Парамоша не стал ввязываться в дискуссию на тему, есть бог или нету его, — он просто возликовал, что усилия привести бабку в говорливое состояние увенчались успехом.
— Вы, Олимпиада Ивановна, болейте себе на здоровье, а я по хозяйству управлюсь. Коза, похоже, привыкла ко мне. Корочку ей даю понюхать. И за рогами чешу, как вы. А то первый-то раз доил — смеху было. Набегался за ней по двору. Дед Прокофий возле колодца Фроську поймал, привел. За рога держал, пока я сиськи дергал. А сегодня уже сама в ноги ткнулась: обрабатывай, мол. Давайте-ка сегодня баньку примем. Прокофий Андреич топить взялся. Отнесем вас на помывку. Сможете сами с мытьем справиться?
— Да господи! Смогу помаленьку.
— Вот и хорошо. Я воды заготовлю, намешаю, чтобы вам только сидеть и руками по себе водить. А я вам мыла кусок привез, еще тогда, до болезни. В подарок. Заграничное. Из Николо-Бережков. В сельпо продавали. Немецкое. Вот, — протянул Васенька подарок в красной, игривой обертке.
— Дай-кось нюхну. Чем оно теперь пахнет у них, немецкое мыльце? Давненько не нюхивала. С войны. Стоял у меня на постое ихний офицерик сопливенький. Так он энтим мылом всю хату мне провонял. Цельный год еще апосля войны плевалась. — Старуха нюхнула, долго не выпускала втянутый воздух из себя и вдруг закашлялась надсадно, будто поперхнулась тем запахом. — Во… во! Так и пахло. Псиной и розами. Вперемешку.
На другой день после того, как Олимпиада в себя пришла и разговаривать стала, явился проведать ее отставник Смурыгин, принес маленький, будто игрушечный телевизор и банку мандаринового соку.
— Хватит помирать, Курочкина. Вот тебе прибор, бабка, телевизором называется. Смотри в него, когда захочешь, держи связь с миром. А это сок мандариновый, грузинский. Юра, который автолавкой управляет, специально для тебя забросил. Привет передавал.
— Спасибо на добром слове. И ему привет. А в телевизор… это как же смотреть? Через биноклю?
Старушка, похоже, не только помирать — унывать не собиралась. Ближе к ночи постучался, но порога не переступил Сохатый. Он всего лишь дверь в избу приоткрыл и смущенно так ухнул из бороды:
— Байня готова.
И прочь удалился, медленно притворив перед своим носом дверь, словно одной рукой проталкивал, а другой не пускал себя в избу. И вторая рука пересилила: не пустила.
— Это он меня смушшается, — улыбнулась Олимпиада Ивановна. — И чаво дядя в бошку себе вбил: будто мужа мово, Андрюшу, на войне сничтожил. Слыхивала как-то от пьянова. На день Победы в берлоге своей мертвецом валялся, а меня завидел — бух! — на колени. И прощения просить. Тверезый-то он про такое помалкивает. А всё ить сны пьяные, сказки диавольские, а никакая не правда вовсе. Однофамильца какогось, можа, и сничтожил, мало ли их, однофамильцев-то, в Расеюшке? А на мово-то, на Андрюшу, похоронная пришла. Всё путем. Чудит дядя, прости его, господи.
Смурыгин, присутствовавший при таком разговоре, неожиданно щелкнул себя ладонью по лбу и внимательно посмотрел на Парамошу. Потому что вспомнил наконец-то давнишнее лицо, то самое, о котором назойливо напоминала ему Парамошина физиономия.
И Васенька, и Курочкина со своей кровати внимательно посмотрели на полковника, готовые посочувствовать, а то и помощь оказать.
— Это я так… вспомнил кое-что. В связи с Прокофием-лесником. Действительно, уж коли привяжется блажь какая — колом ее из башки не выгонишь. А потом — бац! — и как все просто объясняется. А все война… Кровавая от нее отрыжка.
Толковать тогда возле Олимпиадиной хворобной постели Смурыгин ни о чем таком «военном» не стал, он лишь пристальней вгляделся в Парамошины расплывчатые без бороды черты лица и суетливо перевел взгляд на Олимпиадины иконы.
— И что же, Курочкина, извини за нескромность, неужто веришь в свою Богородицу?
— А вам-то чего? — Парамоша с неприязнью уставился на Смурыгина, взглядом внушая отставнику, чтобы он поскорее заткнулся.
— А мне тоже помирать предстоит. Не сегодня — завтра. Вот и любопытно узнать. Я ведь этой наукой душеспасительной пренебрегал. Не до нее было. За правду воевал.
Курочкина кашлянула робко, как бы прося слова, и Смурыгин умолк.
— А и верю, как не верить. Люди — они все во что-нибудь верют. Которые в здравом уме.
— Это как же понимать? Возьми ты хоть меня: ни в какое такое этакое — не верю! Бога нет. Дураку ясно.
— Значит, веришь, что его нет?
— О! Тут сколько угодно! В это — верю.
— Вот и выходит, что все на земле верующие. Даже ты, кормилец.
Читать дальше