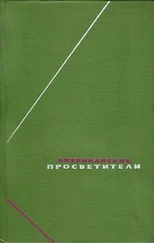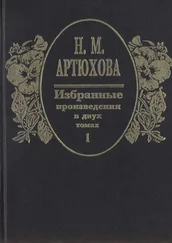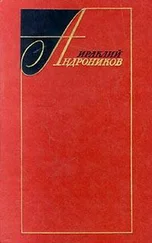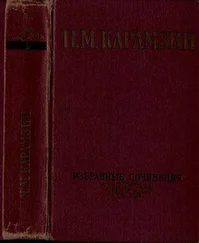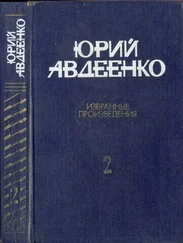«Волга» повизгивала резиной колес на петлях асфальта. Дорога все так же крепко, тугой веревкой, связывала горы, словно бы для того, чтобы они не рассыпались, не попадали ненароком в море, в зеленовато-седую воду, на которой то и дело, будто взрываясь, вспыхивало солнце. Лет двадцать пять назад Мирошников столько раз топал по этой дороге пешком, что и не сосчитаешь. Потом уже вовсе без счета мотался по ней из села в село в райисполкомовском «газике», всюду его знали, всюду были друзья, хоть иных сейчас и не вспомнишь по имени — время! — но Ивана Васильевича не позабыть. Он даже поторопил шофера, будто спешил к живому…
А Иван Васильевич покоился на высокой горе, у столба со звездой. «И. В. Сосин» — было написано на жестяной пластинке. Спасибо, освежили надпись, значит, помнили…
…Он ходил скребущим шагом, подтягивая ноги. Вот уж верно про него было сказано: едва тянул. И все не останавливался, будто боялся, что остановится и рухнет на траву, или в пыль дороги, или на доски некрашеного пола. Иногда он присаживался где-нибудь в глубине запущенного сада у ручья и молча сидел. Клонился, чтобы заглушить боль, и покусывал губы с прокуренными усами. От воды отдавало прохладой. Становилось легче, он стягивал с головы соломенный бриль, доставал оттуда серый листок аккуратно сложенной бумаги (в карманах мялась), отрывал клочок, из-за пазухи вытягивал спрятанный от жены кисет и сворачивал запретную «козью ножку». Докуривал уже на ходу. У ручья и увидал его впервые Мирошников.
— Здравствуйте. Кто такой?
— А вы?
— Уполномоченный я. Из райисполкома.
— О-эх! — протянул Иван Васильевич сочувственно, а может, простонал.
Мирошников еще не знал про его муку и только покосился на него и вытянул ноги к воде, а Иван Васильевич содрал с лысой головы свой бриль.
— Закурите? Скиньте сапоги-то… Намаялись…
— Попал бы кто в мою шкуру, — не пожаловался, а скорее оправдался Мирошников, цепляя носком одного сапога пятку другого и стаскивая их до половины.
Иван Васильевич долго не отвечал, лаская грубыми пальцами, зализывая солидную «козью ножку», потом сказал, положив кисет на траву между собой и уполномоченным:
— Бывало хуже.
— На войне, — согласился Мирошников. — Но то война ведь!
Иван Васильевич прикрыл глаза, посидел.
— И раньше бывало. Вам сколько лет? А-ха-ха, мне тогда было даже поменьше… Значит, давнее это дело…
— Какое?
— Голод. Бесхлебье.
Немало рассказывал ему Иван Васильевич разных разностей, все чаще в минуты неожиданных приступов, согнувшись набок, видно, отвлекался от боли рассказами, не давал овладеть собою. Но ту, первую, историю Мирошников запомнил. И сейчас слышал голос Ивана Васильевича с хрипотцой:
— Вызывают нас, донских пареньков, в комсомольский комитет, говорят — так и так, поедете в Азербайджан, там урожай. Всего выбрали семерых. Поехали. За хлебом. Ехали, ехали и доехали. А до хлеба еще далеко, не так-то с ним просто… Тамошние хлеборобы всё, что могли, давно отдали. Надеяться можно было только на добрую волю. А как расскажешь, что дети голодают, что всего у них и осталось — слезы? Люди незнакомые, речь непонятная… Дали нам переводчиков. Агитируйте! И мы — в селения, к крестьянам. В разные стороны….
Доходят вести: оттуда с хлебом и оттуда с хлебом возвратились ребята, поспешили домой. Люди, хоть и незнакомые, а свои. Да и как не помочь детям? Хорошо!
Но мне вот не повезло. Какая сходка на краю села, а картина одна и та же! Сойдутся, улягутся на травушке, слушают. Я стою, внушаю:
— Так и так, братцы, дети помирают. Да здравствует взаимовыручка рабочих и крестьян!
Кончу говорить — встают и расходятся… Все. И — ни слова.
Хоть плачь. Было, и плакал, честно сказать… Не при них, конечно, а где-нибудь в одиночку. Как малолетка… Да почему — как? Парнишка…
Замечаю раз — пока я выступаю, двое глазами по сторонам косят, следят за остальными и распоряжаются туда-сюда: гр, гр, гр… Спрашиваю после переводчика — о чем они? А переводчик мне попался, можно сказать, с испугом, робкий. Отвечает быстро, бегом: я за вашей речью слежу, вы кричите, да еще кулаком машете, боюсь близко стоять. А кто там шепотом какие слова раскидывает — не знаю.
Вот… Меня кормят, а хлеба все нет. Возвращаться домой стыдно. Другие с хлебом, а я с пустыми руками? А я, честно сказать, такой: если надо чего, умру, а добьюсь… Но как тут добиться?
И остался я на зиму. Климат не злой, а я сердитый. Не на людей, понятно, а на тех двоих и на себя. Зимую… Что делал? Книжку одну долбил. Почернел от солнца, там оно и зимою щедрое, зарос. Сейчас у меня не голова — арбуз, можно сказать, а тогда шевелюра на ней бурьяном стояла, стричься некогда. Сижу за книгой, верите, с утра до вечера и с вечера до утра. Зиму и весну, и лето, пока опять не созрел, хлеб.
Читать дальше
![Дмитрий Холендро Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы] обложка книги](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-cover.webp)