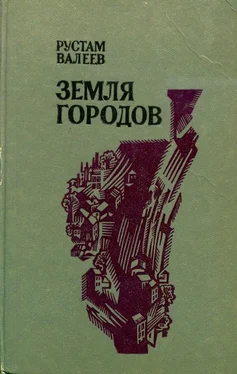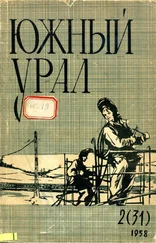— Да, да, — сказал я, — вполне современное. Что же я хотел еще спросить? Да, в городок они не собираются?
— Насовсем? Никогда! Так мне Билял написал: никогда! Никогда! — повторила она с гордостью, и можно было думать, что и сама она долго тут не задержится.
Попрощавшись с Алмой, я почувствовал себя так, словно отдал долг, давно уже висевший надо мной. В самом деле, худой мир лучше доброй ссоры. Да и смешно было бы находиться в состоянии войны с Алмой. Ведь в сущности она знала мало счастья; после семилетки ее зачем-то впихнули в пищевой техникум, приткнули на кондитерскую фабрику, в то время как она, может быть, мечтала совсем о другом. Ведь вот упорно думала все эти годы об истфаке и совсем, видать, не спешит обзавестись мужем, да, может быть, и не очень дорожит домом, доставшимся ей в наследство. Но что-то смущало, не давало мне покоя весь вечер, когда я перебирал в памяти наш с нею разговор. А ведь она не то что словом, а хотя бы даже чуточным намеком не выразила раскаяния за прошлые зловредные свои поступки. Может быть, ей было очень стыдно вспоминать о чем-то таком?
А однажды утром я был разбужен говором и смехом, звучащими с какой-то нервной оживленностью. Кто-то из наших стоял на балконе, остальные протискивались в узкую дверь, намереваясь увидеть там, на улице. Салтыков шагнул в комнату, увидел, что я не сплю, и проговорил с сердитой усмешкой:
— А глянь-ка в окно!
Я наспех оделся и вышел на балкон. Прижавшись к бровке мостовой, прямо против окон гостиницы стояли три грузовика, доверху груженные бревнами и досками. Домишки на слом в это лето продавались то и дело, так что картина, увиденная мной, ничего особенного не представляла. Но сердце мое забилось, когда у головной машины я увидел Якуба, моего отца. Он был одет как на парад: в глаженом подбористом кителе, в яловых сапогах, в зеленой фуражке; даже алюминиевая палочка в его руке казалась отдраенной и поблескивала празднично.
— Алексей Андреич, — взывал он к Салтыкову, — я не мог больше тянуть, поймите меня. А если мы сегодня же не соберем дом, его растащат в момент.
Сомнений не было: он разобрал дедовский дом и намерен был посадить его первым в квартале-музее. Салтыков из-за моей спины прокричал:
— Давайте куда хотите, но меня оставьте в покое! Обратитесь к Халикову!
— Халиков опять же к вам будет звонить, да вы его быстро отошьете. Сынок!.. — Он вроде только сейчас заметил меня. — Сынок, поговори ты с товарищами, не дай пропасть большому делу… ведь для будущего… общая наша забота!.. — Шофера, видать, нервничали и покрикивали на него, пока что коротко нажимали на клаксоны, и голос Якуба обрывался, терялся в закипающем шуме. — Сынок…
Точно все еще не веря своим глазам, я пошел взглядом по одной, другой, третьей машине и тут только в конце этого поезда заметил мохнатую понурую лошаденку, запряженную в громоздкую телегу. А на широкой площадке телеги лежала каменная плита. Он и плиту, дедовскую плиту, вез, как, может быть, самый значительный, самый драгоценный экспонат.
— Ей-богу, ума не приложу, как с ним быть, — проговорил рядом Салтыков. — Ты-то что молчишь? Да что с тобой?..
Здесь когда-то познал я замкнутость и страх перед замкнутостью, простой, близкий к природе мир показался мне устрашающе ограниченным. Но именно в городе какое-то стихийное, первобытное чувство затронуло во мне память о колыбели. И — вновь я в городке, и поспешно радуюсь, что вижу еще следы времен на постаревшем лице его, люблю напоследок его простоту и незатейливость, ибо возврата в него уже нет.
Теряя, тоскуя и надеясь, я думаю: жила бы во мне теплая твоя душа. И теплую твою душу, и зреющий твой разум пронести бы мне под небом неотвратимых городов .