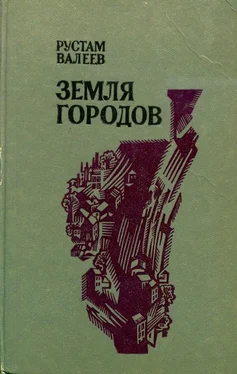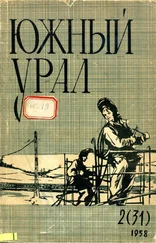— Вы… вы… — сказал он, заикаясь, — я вам п-подарю эту книгу. Нет, нет, я п-подарю. — И протянул книгу гостю.
— Он дарит, понимаешь, дарит! — затараторила Алма, беря книгу и выталкиваясь со своим кавалером в коридор.
Билял сидел за столом и ужасался своему поступку:
— Я, п-представляешь, п-подарил этому оболтусу книгу!
— В самом деле, — сказал я, — ведь ты и сам не прочитал.
— Да черт с ней, что не прочитал! Но почему я подарил этому оболтусу?
Деля собрала горку тарелок и ушла мыть их на кухню.
— Ты потому подарил, — ответил я Билялу, — что хотел быть вежливым хозяином, вежливым, деликатным. Потому ты и в магазин побежал, а Делю заставил угощение готовить. Неужели тебе так ценно мнение Алмы или ее оболтуса?
— А? — встрепенулся он. — Ты сказал…
— Излишек самолюбия вредит достоинству.
Он сидел и печально кивал головой. Закончив дела на кухне, вернулась Деля, увидела наше уныние и решила, видать, рассеять его. Она поставила пластинку с цыганскими романсами. Но нам было не до музыки.
— К черту, — буркнул Билял, — не терплю гостей.
Перед любым гостем он становился как бы ниже ростом, меньше достоинством, и вот такой-то он силился показать себя иным. Но чем больше он старался, тем заметней было в нем лебезение. Иногда ему удавалось сбросить с себя лебезение, но тогда оно обращалось в небрежность, заносчивость. Незамысловатость поведения почти не удавалась ему, ничего не мог он с собой поделать — это сидело в нем прочно, неискоренимо. Он был обречен на притворство.
Напряжение между ними росло. Однако ни тогда, ни позже не было не только скандалов, но и мелких ссор. Во многом это объяснялось терпимостью Дели, которая, впрочем, переживалась им столь же болезненно, как если бы были скандалы. Ее терпимость он принимал как поблажку, снисходительность, а вот уж чего не хотел он принимать ни от кого.
Но он стремился к общности: так, летом собрался с Делей в экспедицию по пещерам, но простудился и вернулся через три дня. Она, не закончив дела, поспешила за ним и была удивлена (и, может быть, возмущена), застав его не только здоровым, но и довольнехоньким. Он смеялся, дурил, кричал, что любит ее, любит родичей всех скопом и каждого в отдельности. Все объяснилось просто: его опять взяли в ветлечебницу и флигелек, сказали, он тоже может занять, как прежде.
Он тут же и забросил все дела по благоустройству квартиры. И тут меня как осенило: боже мой, да ведь он так рьяно обустраивал их жилище не потому, что он крот-накопитель, не из любви к имуществу и уютному существованию среди ящиков с цветами и аквариумов, нет! — на короткий благословенный срок он получал свободу распоряжаться в своем обиталище. Но сородичи из городка и тут не оставили его в покое. И он, бедный, отчаявшийся, видать, решил: нет, нет от них спасения, они везде его отыщут и будут совать нос в его жизнь, распоряжаться его отношениями в семье, его собственным ребенком! И — вот он, спасительный флигелек. Но и там, видать, он вздрагивает от каждого звука за окном: не явился ли за ним отец, не ввалится ли Алма, не свяжут ли его и не поведут ли опять в квартиру, тесную от темной полированной мебели?
Отчиму было пятьдесят восемь лет, когда его свалил жестокий инфаркт. Он поехал на испытания бульдозера в пригородный совхоз, там машина капризничала, он нервничал, садился сам за управление, выскакивал исправлять неполадки. Тут его и схватило…
Накануне я поздно вернулся из командировки и спал очень крепко, когда всполошно зазвонили у двери. Я вскочил, машинально глянул на часы — было одиннадцать утра — и пошел отворять. На пороге стояла Наталья Пименова. Нервно хохотнув, она прошла в переднюю, обдав меня запахом дождя.
— Чего ты тянешься? А, впрочем… — Двинула плечом, и я едва успел подхватить ее мокрый плащ, — Вижу, ты ничего еще не знаешь. Булатов в больнице.
— Что с ним?.. А ты откуда знаешь?.. (Она уже несколько лет не работала на заводе.)
Она внезапно всхлипнула и тут же вытерла глаза.
— Я пришла на завод проситься к Булатову. Говорят: ждите, будет с часу на час. А потом: он в больнице трубников.
— Что, что с ним? Почему ты не говоришь?
— Не знаю. — Она так и не взглянула на меня, а шарила быстрым неосмысленным взглядом по комнате, куда я втащил ее почти насильно. — Я не должна была плакать перед тобой. Ну, ладно. Ты один дома? С меня хватит пикантных выходок. Я бы хотела видеть Булатова, когда ему полегчает. Дай мне твой телефон.
Читать дальше