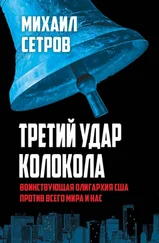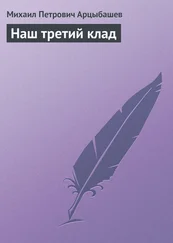Он любил смотреть на огонь, когда короткое ленивое пламя мерцает сквозь алые угли. И ему всегда вспоминалось, как в детстве часами просиживал у очага, вороша угли под большим котлом с чаем. Нет, здесь красивее.
Пламя юлит в топке, выглядывает из самых неожиданных мест, скользит меж углей. А на потолке капли, как слезинки, нависают и тут же испаряются. Александр Федорович говорил, что там пробка контроля. Если воды мало, то опасно для паровоза, и пробка сама по себе расплавляется.
Цыремпил еще несколько минут внимательно понаблюдал за каплями, но они стали появляться реже, потом исчезли совсем. Он протер глаза: не снилось ли? Нет, не появляются. Плохо спать аа посту.
Пробка напоминала о себе урчащим шумом в топке: воды меньше допустимого уровня. Проспали! Цыремпил ругал себя за оплошность. Надо было вовремя сказать Листравому. А теперь что же? Гасить паровоз… Пробка сгорела, вода зальет топку по его, Цыремпила, вине. Так-то он отплатил машинисту за обучение паровозному делу… Цыремпил готов был лезть в пламя, лишь бы отвести беду.
Александр Федорович тотчас догадался, в чем дело: прорвало контрольную пробку. Теперь дело решают минуты. В мирное время нужно было бы немедля тушить, а сейчас… Позади жизни людей…
— Мочи уголь! — крикнул он Цыремпилу, распахивая дверцу топки.
Сверху в топке била серая струя пара и распыленной воды. Двенадцать атмосфер! Цыремпилу казалось, что не пройдет и пяти минут, как все будет кончено: паровоз омертвеет.
Листравой подхватил вторую лопату и вместе с Цыремпилом кидал в топку уголь. Набросали толстым слоем. Желтоватый дым пробивался в прорывы. С режущим шипом, потрескивая, вырывалась наружу острая струя кипятка.
Цыремпил не понимал действий машиниста. Преступление перед товарищами убило его. А он ведь не оправдался еще и за проступок в дороге. И вот опять…
— Доски! — Листравой указал Илье на полку.
Пилипенко понял его с полуслова. В эти лихорадочные минуты Илья прикидывал, как лучше пробраться в топку. Он не допускал и мысли, что кто-либо другой выполнит это исключительно рискованное дело. Рывком он сломал полку, разделил ее на отдельные доски.
— Цыремпил, бородок! — Александр Федорович отбросил лопату, стал на колени перед отверстием топки. Но Илья решительно отстранил его, бросил в топку доски.
— Лей на меня воду! Давай, давай!
В какие-то доли минуты Илья почувствовал небывалую в себе силу, в нем всколыхнулось все смелое, дерзкое и отчаянное, собралось во что-то необузданное, храброе и твердое. Это «что-то» повелевало им. Он слабо поморщился, когда вода побежала за пояс, холодом прокатилась по телу; потом натянул шапку. Обостренно замечалась разумность каждого движения. Сознание ясно запечатлело лица товарищей, их тревожные, испуганные взгляды…
Он смело положил руки в рукавицах на край топочного отверстия: вода зашипела, пар улетел легким облачком. Маленькое овальное оконце было перед Ильей. В обиходе паровозников: шуровка и все. Пилипенко в тот момент видел в оконце многое: и сотни раненых, что ждали отправления, и товарищей на Единице, борющихся с врагом, и тех, кто оставлен в братских могилах, и далекую-далекую победу.
Илья просунул голову в топку; зажгло уши, и он плотнее натянул мокрую шапку. Подумал: «Ногами вперед было бы лучше…» Его охватило удушливое облако жгучего угара. Узкий горячий овал клещами сжал тело.
Он чувствовал, как дубела кожа на лице, в глазах и легких пылал костер. Он ощущал, как холодело сердце, и видел серую упругую струю, свистящую у потолка, которую он должен укротить.
Свист ему не слышен. То звенит кровь, мчащаяся по жилам, молотом стучит в висках. Илья двигался к цели…
Батуеву не было видно, что делает Илья. Они с машинистом сидели на полу и следили за ногами, мелькавшими в клубах дыма и пара. Пар все больше скрывал Илью: уже и ноги едва различимы. Цыремпил с ужасом видел язычки жадного пламени, выглядывавшие из-под слоя угля. Александр Федорович бросал в те места мокрый уголь, и огоньки глохли.
Илья, нацелившись, на ощупь наставил бородок и ударил по нему молотком изо всех сил, как ему показалось. Но его усилий было мало, и вода просачивалась, хотя и с меньшей силой. В глазах метнулись желтым веером искры, ноги подломились… И уже он на какой-то горе, высоко-высоко, почти у самого солнца. Оно нещадно палит, сушит горло. Он хочет облизать губы и не может: у него не стало языка…
Машинист сам протиснулся в дверку, дотянулся до ног Пилипенко, с трудом подтащил его к себе. Ему подсобил Цыремпил, и они высвободили Илью. Сапоги его ожигали руки, одежда дымилась. Плеснув себе в лицо холодной воды, Цыремпил, не раздумывая, устремился к топке. Листравой молча подал ему мокрые рукавицы, облил из шланга водой.
Читать дальше
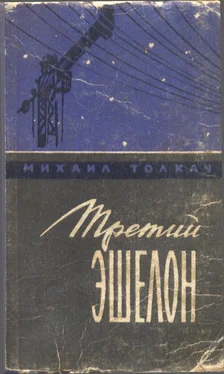




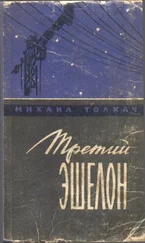

![Михаил Козаков - Третий звонок [litres]](/books/398173/mihail-kozakov-tretij-zvonok-litres-thumb.webp)