Женя пришел в 12 часов.
Она и открыла ему.
Физа Антоновна спала.
Она спустила крючок, оттянула дверь и покорилась минуте. Он сослепу наткнулся на нее и чуть не уронил, придержал за мягкую слабую руку. «Надо жить как бежит: просторно и вольно» — такое у нее было состояние. Она сама себе управа, и про сомнения, слезы и обыкновенные дни после сладкой смелости она еще не догадывалась.
Тикали ходики.
— Женя, ты чо там? — спросила из комнаты Физа Антоновна.
Чем страшнее и стыдливее были от присутствия в доме Жениной матери, тем отчаянней, просяще колотилось сердце. Но Физа Антоновна существовала на свете, присутствовала как запрещение, как, наверное, бог являлся для простодушных в минуты нарушений молитв и законов. Они прикоснулись друг к другу с обоюдным согласием и отступили, потому что обоим было совестно перед матерью, как будто они ее оскорбляли в самой святой ее надежде.
Она быстро прошла в свою комнату, легла и не уснула, слышала чирканье спичек в кладовке, где он укладывался на соломенный матрац, и с рассветом к ней подступил настоящий страх, и она уже не понимала, как встанет наутро и поведет себя: ничего не было, а казалось, что она полюбила вчера не чужого человека, а родного брата.
Она уехала, когда гнали в стадо коров. Вернулась через десять дней, на стене висел Женин портрет, самого его опять проводили в институт. Она училась и жила две зимы, подписывала Физе Антоновне конверты, заполняла переводы и вспоминала то лето, тот стук, тот день, когда она гладила в своей комнате и слушала историю замужества Физы Антоновны — и у стола сидел ее с ы н, который, может, тоже думал о ней в ту минуту.
Все миновало.
А ведь была когда-то деревня, и нежно светили закаты, в полях дуло чистым ветром, по-молодому тешилась душа, и никогда уже, наверно, не ощутить живым полным чувством свое состояние.
По всей дороге, с запада на восток, торговали на станциях женщины в белых платочках. Трое суток менялись за окнами русские картины, и московское время на часах отступало назад. Мать не выходила встречать специально, она была у поездов каждый день, стояла у деревянного прилавка, раскрыв кастрюлю с горячей картошкой. Если бы он позабыл ее лицо, он бы старался угадать ее среди множества тетенек на вокзальных базарчиках разных станций.
— Бери, сынок, — говорили они, — с картошки поправляются.
Мать заворачивала картошку в листики из школьных тетрадок. Старательным детским почерком выполнял Женя когда-то упражнения по русскому языку, долго запрещал уничтожать их.
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» — переписывал Женя и тогда еще не содрогался от мысли, как это верно!
Мать говорила таким языком.
Они оба волновались, еще не сойдясь. Еще в Москве и в вагоне он бывал бодр и даже беспечен, заворожено блестели его глаза, воображение еще не касалось несчастливых подробностей. Но при матери старое сочувствие подкатывало к сердцу. Вот она, вот она, жизнь: не в мечтах, не книжная и не чья-то.
Бывало, он первым долгом, едва умывшись, стучался к Демьяновне. Демьяновна — это шутки, побасенки, матерки. Редко она находилась в избе. Где он ее только не заставал, но запомнил ее на траве, в зимней шапке, в штанах, со страшными зубами, вырезанными из картошки.
— Какая-то нищенка, какая-то нищенка, — не признавали ее издали.
Под нищенку она и играла. Плела она черт те что. Она и инвалидка, ее и обокрали, и последнюю-то рубашку вынесли, хибарка развалилась, детки-то ее бросили, а сама она едет-то с Белоруссии на целину, там, дескать, няньки нужны, да ссадили ее с поезда. Ну, тут, конечно, были вопросы, один другого каверзней, и на все Демьяновна отвечала серьезно, правдоподобно и с такой выдумкой, что животы лопались. Несли ей, поддаваясь внезапному спектаклю, огурцы, хлебушка, вареных яиц и холодец на тарелке, и Демьяновна тут же, снимая картофельные зубы, с голодной жадностью заталкивала пищу в рот.
— А пожиже ничего нет? — набиралась нищенка смелости. — Рыженькой, «Анапы» нету? Говорят, в первом магазине выбросили, сбегал бы кто помоложе. Лекарственная.
В первые минуты Женю одолевало разочарование. Он думал о ней с далекой дорожной грустью, с нежностью. Она же уминала толстым задом траву и дурачила соседей.
Читать дальше
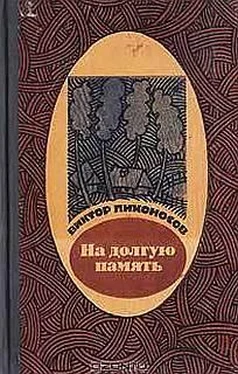








![Виктор Лихоносов - Люблю тебя светло [сборник]](/books/392320/viktor-lihonosov-lyublyu-tebya-svetlo-sbornik-thumb.webp)


