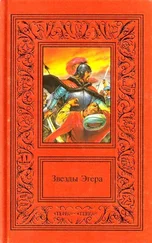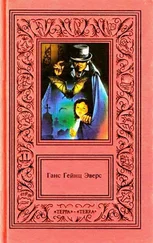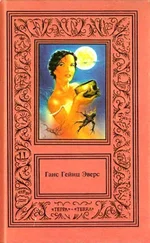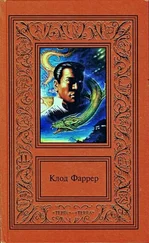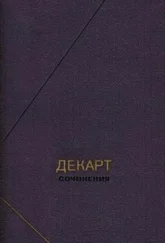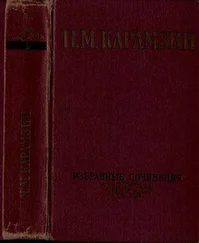— Ты не мети… Не мети пыль… Душевный!
— Да я ведь сторонний, отец. Погорелец. Ну, отбился от семьи… Память у меня, понимаешь, отпадает…
— Вижу сокола по лету…
Знакомый ритмичный звук теперь стал слышен и здесь. Он приближался.
— Спрячь, дедушка!
Я пытался заглянуть ему в глаза — в эти далекие серые точки, остановившиеся и пустые.
— А ты что за гусь?
— Местный я… Сапожника сын.
— Ступай, что ж прятать тебя?
Я не хотел уходить от Игната.
— Да ведь боязно одному.
Рука была упруга и крепка. Я тряс ее. Она была упруга, как ветвь дуба. И мне никак не удавалось заглянуть под брови, в темную глубину, где так и чудилась усмешка…
Но Шаруда вдруг засмеялся:
— Понимаю, батя, понимаю. — Что-то сверкнуло в его руке. Дед медленно разжал пальцы, протянул ладонь. Это были часы. Он недоверчиво взвесил их, ощупал золотую гравировку. Глаза его оживились. Не торопясь, он начал рыться в карманах свитки, потом в карманах брюк. Он не спешил. Но шаг пехоты, минуту назад лишь чудившийся мне, стал отчетливым и резким.
Я опять схватил его руку. Он круто повел плечами.
— Отойди… — и, достав ключи, снова окинул взглядом Игната.
— Поотстал, значится? То-то, не следовает отставать.
Шаруда посыпал мягкой скороговоркой: — Какое там отстал, отец… Сторонние, говорю. Другое дело за правильность жизни страдать… А какая она правильная? Кто скажет? Вот и выходит: горько, без пользы-то гибнуть больному человеку.
Я даже взглянул на Шаруду, так неузнаваемо звучал его голос. Но и лицо, и жесты его переменились, — почти незнакомый человек стоял передо мной.
— Птица, журавль, скажем, — рассудительно молвил дед, — и та от стаи не отойдет… А человек? Что человек! Беда! Ладно, ступай в камеру, спи, — добавил он, кивая Игнату. — Ежели спросят, так и скажу, не в уме парнишка.
Игнат внимательно посмотрел ему в лицо.
— Только ты, милый, принеси-ка мне бичеву, — сказал он. — Я, как только припадок начинается, привязываю себя веревкой.
Старик стал торжественно серьезным. Оборачиваясь, он глянул на меня.
— Ступай отсюдова… Что бродишь?
Игнат сказал, зевая:
— Здешний он парень. Испуганный малость, — и добавил шутливо: — Возьми его, дед, бороду будет чесать.
Сторож засмеялся:
— Ладно. Двор заставлю мести.
Покачиваясь, он пошел вслед за Игнатом. За ним гулко стукнула дверь.
Я знал, что мне нельзя уходить от Игната, я не хотел уходить от него и поэтому остался во дворе тюрьмы.
Старик вскоре вышел из коридора. Не оборачиваясь, он зашагал к воротам. Не зная, что делать, я пошел вслед за ним.
Широкие плечи его качались. На ходу он достал из кармана бумагу и уже на улице кисет.
В переулке еще не улеглась пыль, хотя отряд скрылся из виду. Тотчас же, как только мы вышли за ворота, двое военных подошли к нам. Высокий худощавый брюнет в костюме английского образца, с блестящими кружочками пенсне на носу, церемонно кланяясь, спросил вполголоса:
— С кем имею… говорить?
Старик медленно сполз с камня, расправил бороду:
— Митрофан. Сторож.
— Что изволите стеречь?
— Тюрьму…
Второй военный, усталый бледный толстяк, захохотал, откинув голову. Рот его блеснул золотым сплошняком зубов.
Я заметил и понял короткий взгляд деда.
— Значит, советскую тюрьму стережешь?
— Мне любая власть хлеба даст.
Толстяк повел на меня глазами.
— Ты, малый, пойди погуляй.
Я вернулся во двор. В сарайчике, под стеной, я нашел лопату и метлу. У раскрытых дверей коридора задержался на минуту. Мне послышался смех — заливистый громкий хохоток. Я узнал голос Игната.
Вскоре в проходе появился старик. Он по-прежнему был медлителен и спокоен.
— Метешь? — сказал он, шагая через двор. — Ты траву режь. Под корень режь, чтоб чисто! — И, прислушавшись, весело хмыкнул в бороду:
— Ишь ты… хохотун.
Я не понимал своей бессмысленной работы.
— Зачем, дедушка, портить траву? — сказал я. — С ней же куда веселей…
— Ладно. Поговори.
— Право!..
Присев на порожек, он поднял глаза:
— Не театр, чай… Веселье!
Сложив руки, он сидел неподвижно, пока я начисто выполол мураву и вынес мусор. Потом он пошел в будку и принес мне краюшку черствого хлеба. Я ел маленькими кусочками, старательно разжевывая, чтобы продлить наслаждение, и каждый глоток запивал водой. Крупные куски соли хрустели на моих зубах, ячменные остья кололи небо. Хлеб был пропитан едкой горечью, от которой дыхание становилось жарким и слегка кружилась голова. Но все же он доставлял мне огромное наслаждение, этот сухарь.
Читать дальше