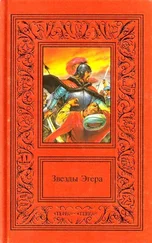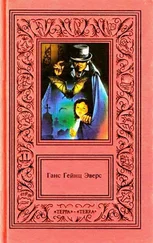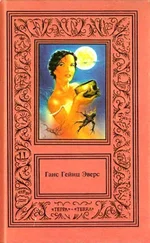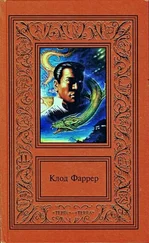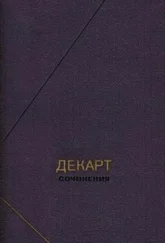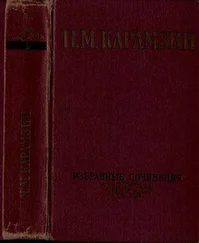Я сказал, что видел афишу и даже пытался купить билет. Он замахал руками.
— Можно было и не пытаться. Верьте мне: я в этом деле соображаю, мальчишкой промышлял у театральных касс. В былые времена одесские пацаны при таких аншлагах имели выручку. А нам с вами на этот раз повезло: мсье Деваль, комильфо, спасибо, прислал билеты.
— Сам Жак Деваль? Автор пьесы?
— Он самый. Очень милый француз. Но поговорим не о парижанах — о донбассовцах: как там наши добрые знакомые — украинский лирик Герасименко, поэт-коногон Беспощадный, артист со «Смолянки» Миша Михеев, Николай Савельевич — инженер, красавица свет-Катя, горловчанин Изотов, чье имя все чаще мелькает в газетах? Сразу же скажу вам по секрету, что принял решение снова ехать в Донбасс. Я им увлекся и проникся. Конечно же, без бодрячества, без этих глупостей: ах, мой станочек, моя домнушка, моя шахточка!
Он усадил меня за стол, отодвинул стопу журналов и газет, присел напротив.
— Только здесь, в тихом переулке, осмотревшись и призадумавшись, я ощутил тот весомый, добрый осадок, что вынес из Донбасса. И вспомнился Чехов. Он мечтал пожить где-нибудь в районе Харцызска. Эти строки из его письма показывают, насколько обостренным у Антона Павловича было чутье к пульсация жизни, к наиболее выразительным ее проявлениям, к географии «горячих точек» страны.
Я заметил ему, что в дороге перечитал «Конармию». Он насторожился:
— И что?
— На заводах, на шахтах в Донбассе вы встретите немало бывших буденновских конармейцев, меченных свинцом и сталью лихих рубак: в них не убавилось ни ярости, ни отваги, но только эта неистовая сила переключилась на уголь и металл и стала рабочей хваткой. Будет вполне логично, если автор «Конармии» последует за своими героями.
Он смотрел на меня широко открытыми, немигающими глазами, и зрачки его глаз, увеличенные линзами очков, были огромны.
— Спасибо. — Он молчал долгую минуту. — О, это большая задача! Огромная задача. И привлекательная. Очень. Быть может, потому и привлекательная, что трудная, что так суров материал. А пока мне ясно одно: настоящей книги о Донбассе еще не существует. Ни прозы, ни стихов. Шахтерские «страдания» это подтверждают: они — просьба о песне, тоска по песне. Что же касается романов, повестей, рассказов о шахтерах, а таких книжек за последние годы появилось порядочно, так в большинстве это — ремесленные поделки, высокопарные, спекулятивные, низкопробные. Как они появляются? Кто их печет? Конечно же, не писатели. Звание и призвание писателя высоки, и он не станет фальсифицировать эмоций, принижать мышление героя до примитива, нагнетать трескучий и холодный «оптимизм». Определенно, в литературе развились «древоточцы», они портят «материал», искажают картину жизни, обедняют, обгладывают героя до костей. Книжки эти обречены еще в час рождения: они никого в ничему не научат, а прочтут их, быть может, одни только дежурные рецензенты.
Я назвал повестушку, о которой в ту нору было немало сказано: она всплыла на гребне рапповского призыва ударников в литературу и подчеркивала всем известный контраст между старым, капиталистическим, и новым, социалистическим Донбассом.
— Это лубок, — небрежно сказал Бабель, недовольно морща лоб, — а в лубке вы напрасно искали бы «глубины жизни».
Он встал, броско, энергично прошел к окну, замер, словно бы удивившись преграде, и уже медленно возвратился к столу.
— Я представляю себе достойный роман о Донбассе, как мощную и яркую поэму в прозе, поэму торжественную своей правдивостью, высотой инженерной отваги, повседневного шахтерского подвига. Читатель войдет в эту поэму, как в строгий, сияющий храм, в котором ничто и никто не пугает, не предает анафеме и не грозит, а человек труда предстает со своими рукотворными чудесами, как великий зодчий, продолжающий сотворение мира…
— Между тем, эта торжественная декларация, — заметил я, — не характерна для писателя Бабеля, которого я знаю.
Наклонив голову, он насмешливо заглянул мне в глаза.
— Неужели вы и всерьез считаете меня скептиком, нытиком, эротоманом, эстетствующим снобом и прочее? О, на меня понавешивали ярлыков! А суть моей скромной писанины в том, что я всегда любил и люблю простого человека, всегда страдал его страданиями и желал ему счастья.
В театр мы решили идти пеши, избрав довольно дальний путь вдоль набережной Москвы-реки, вверх, мимо Василия Блаженного, через Красную площадь… В ясное предвечерье после несильного дождика улицы сверкали, как лакированные, окна зданий в закате вспыхивали и лились, и весь город выглядел словно бы кованным из бронзы.
Читать дальше