— За «опель» сколько дадут? Держи. Тысяч десять. Дадут? Романов!
— Он уже старый… Сумасшедшая… Больше восьми не дадут.
— Неси меня к той акации. Мы купим «Победу».
— Где ты денег взяла, у отца?
— Нет, Романов. Неси! Мы же условились: у родителей денег не брать.
— Та-а-ак… — Романов опустил Раю на землю, наблюдал за ней.
— Я собирала, Романов. У нас на сберегательной книжке девять тысяч пятьсот семьдесят три рубля.
— Тайком от меня?
— Да.
— Зачем?
— Я хотела, чтоб твоя «мечта» сбылась неожиданно. Я хотела сделать тебе подарок и гордиться тобой. Слышишь?.. А ты хотел бы гордиться мной, Романов?
Возле «опель-капитана» стояла Анютка. Она тоже смотрела, склонив голову набок, не понимая, что происходит, в кулачке сжимала кузнечика.
— Романов, ты любишь меня?
— До потери сознания и еще после немножко. Сумасшедшая. Люди смотрят.
— Целуй меня, Романов.
Она откинула голову, руки, вплотную подошла к нему, прижалась.
— Целуй, тебе говорят!.. Вот так… Анюта! Сейчас будем с папой играть в ловитки. Ну?.. Давай, Романов, поиграем в ловитки, а потом выпьем, давай? Чтоб мечты наши сбывались и мы всегда гордились друг другом. Лови!..
Весь день Рая дурачилась, дразня Романова, заражая веселой радостью, добродушием. Романов успел позабыть, с чего началось оживление, необычное, какое бывало у них лишь в первые месяцы жизни под одной крышей. Вечером, нырнув под одеяло, Рая ласкала Романова.
— Ты любишь меня? — шептала она, щекоча шею и грудь горячим дыханием. — Правда, ты хочешь, чтоб мне было хорошо? Если мне хорошо, и тебе хорошо, правда? И детям. Мы ведь одна семья, — тормошила Романова. — Давай поедем в Москву, — наконец предложила она.
— Придет отпуск — поедем.
— На «Победе». Давай?
— Поездом удобнее, — отвечал Романов, стараясь уловить что-то в поведении, в словах Раи; это «что-то» ускользало, не поддаваясь определению.
— Нет, — продолжала Рая, ласкаясь. — Не поездом. Давай с ночевкой в лесу. Так, как мы ехали из Москвы. Помнишь?
Романов зажег ночник, привстал на локоть — посмотрел на Раю.
— Та-а-ак… — сказал он, растопыренными пальцами укладывая волосы на голове. — Что ты хочешь? Ты можешь прямо сказать?
Рая была готова к вопросу. Она смотрела на Романова, не отрывая головы от подушки; смотрела весело, хорошо. Она была без очков — не такая, какой Романов привык ее видеть. Когда Рая снимала очки, она всегда напоминала ту девчонку, которая прятала лицо в колени на берегу Оби, а потом провожала его на Западный фронт, ту, молодую, жадную к жизни женщину, которая в тихом проулочке возле улицы «Правды» упала Романову на грудь, а потом, по существу, бежала с Романовым из родного дома в Донбасс, ту Раю, которая сама изнемогала от усталости, но не покидала Романова у стола с учебниками для десятого класса. Без очков она делалась ближе, роднее.
— Мне предложили работу в больнице имени Боткина, — сказала Рая как о деле само собой разумеющемся. — Главным хирургом там сейчас профессор Курин, бывший учитель мамы. Он был ее руководителем и в ординатуре… Я хочу стать хорошим хирургом, Саня, каким была моя мама. Ты должен понять меня правильно… Это моя мечта.
Рая лежала на спине, закинув руки под голову, не шевелясь; чистыми, выполосканными ясиноватским небом глазами смотрела снизу вверх на Романова, не требуя, не моля, — ждала, доверившись без остатка. Романов упирался рукой в подушку, молчал; кулак и запястье утонули в подушке. Он вспомнил… Он помнил…
Это было в Донбассе. Уходил 1933-й. Над городом ползли оловянные, низкие тучи, моросил холодный, осенний дождь. Сумеречным светом блестели редкие стебельки травы, сожженной суховеями за лето, — вода стекала по ним. Черными были земля, заборы, деревья; черным казался воздух, чрезмерно насыщенный влагой. И люди были черные, придавленные небом, разбухшие то ли от голода, то ли от дождя, — ходили, шлепая распухшими ногами по грязи, тяжело, ссутулившись, будто падали, но не могли упасть. Была голодовка.
Только что похоронили младшего брата Саньки Витю, умершего от дизентерии. Отец, вернувшись с кладбища, затопил плиту, поставил варить требуху в казанке и убежал на наряд на шахту. Мать, ослабевшая от горя и недоедания, лежала на кровати, поворотясь лицом к стенке, закрыв руками лицо; лежала тихо, как Витя в гробу, не шевелясь. Катька сидела на диване — выстригала из газеты ромашки; ножницы взвизгивали, бумага шуршала в ее руках. Шел дождь.
В комнате было тихо. Булькающая в казанке вода, визг ножниц и шорох бумаги нагоняли тоску. Санька раскрыл учебник географии.
Читать дальше
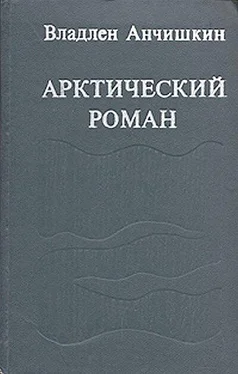


![Елена Крестьянова - Зов Орианы. Книга вторая. Арктический десант. [СИ]](/books/118444/elena-krestyanova-zov-oriany-kniga-vtoraya-arktich-thumb.webp)







