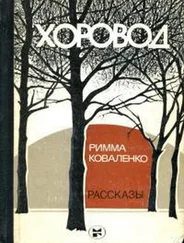— Потерпите четыре месяца. Потом будете слать мне в армию письма, как вы меня любите и обожаете.
— Никаких четырех месяцев, — тяжело задышал отец. Он вообще умел радоваться и негодовать только в унисон матери. — Мы не можем больше на тебя смотреть.
— Ладно, — вздохнул Шурик, — завтра уйду.
Но тут они закричали вразнобой, что распустили подлеца: папашка у него «дружок», мамашка — «свой парень», пусть убирается сегодня, никаких завтра! Отец до того разошелся, что подскочил к нему, дотянулся своей короткой ручкой до его шеи и стал толкать к двери.
— Только без этого, — сказал Шурик. — Поскольку я в детстве не бит и к рукоприкладству не приучен. Ухожу. И чтобы утром никаких высоких переговоров, никаких делегаций и ультиматумов. Расстанемся, как благородные люди. Не в первый раз.
Когда он с чемоданом в руках пересекал двор, они стояли на балконе и чувствовали себя гигантами: кто бы еще мог эдак — единственного сына в шею, из дома. Он хотел припугнуть их, переночевать на вокзале, чтобы они немного выпустили пар и не считали себя такими уж принципиальными, неумолимыми воспитателями, но не смог, слишком знал их, не имел права подставлять под удар их здоровье. Приехал к бабушке, а та с порога выдала их планы с головой.
— Я не должна ничего давать тебе есть, кроме чая, хлеба и манной каши на воде.
Вот таких послал бог родителей. Да на такой диете можно всего Достоевского перечитать, всю жизнь свою будущую прочертить в двадцати семи вариантах!
— Они жаждут власти надо мной, — сказал он бабушке, — они родились полководцами, генералами, а все их войско — я.
— Они хотят, чтобы ты трудился, — ответила бабушка. — Ты должен пойти на завод, устроиться на работу. Покой родителей, Шурик, превыше всего.
Бабушка до пенсии преподавала в музыкальной школе, в молодости играла на скрипке в оркестре, сыну своему — отцу Шурика — до седых волос напоминала, что в детстве он был малоодаренным, ленивым ребенком. Но тем не менее фамилия отца стала самой известной в области, он работал диктором на радио. Бабушка никогда не включала приемник, когда он читал областные новости, а в праздники за столом, слушая разговор сына с гостями, спрашивала у невестки:
— Вот этим голосом он сделал себе карьеру?
Шурик бабушку и родителей считал чудаками и довольно скучными людьми. Понимал, что их трое, а он один, и терпел их речи, поучения, воспоминания, всю ту воспитательную суету, которой они отравляли и ему и себе жизнь.
Он отправился на завод на следующее же утро. Бабушка сварила кашу на молоке, на молоке же взбила яйца для омлета и все это поставила перед ним с таким видом, будто провожала на великий подвиг.
— У тебя сегодня, Шурик, исторический день. Как правило, в интеллигентных семьях детей оберегают от заводов и фабрик. В результате вырастают последыши. Если бы твой отец пошел по моим стопам, какой бы была его жизнь? Но он пошел своей дорогой и теперь, говорят, очень неплохо читает по радио разные полезные тексты.
— Но он же не пошел на заводы и фабрики.
— Думаешь, что ты очень умный, — сказала бабушка. — Все, к сожалению, так о себе думают. Если бы он пошел на завод, то со временем не читал бы эти тексты, а создавал их.
— Но кому-то надо читать. — Шурик давно понял, что убедить в чем-либо бабушку невозможно, но, как в воронку, всякий раз втягивался в спор с ней. — Он получил заслуженного артиста за свою работу. Ты преуменьшаешь его жизненные достижения.
— Я не преуменьшаю. — Бабушку сдвинуть в сторону никому еще не удавалось. — Я не говорю о том, что есть. Я говорю о том, что могло быть, он создавал бы тексты!
Вечером, когда Шурик Бородин вернулся под бабушкину крышу, за праздничным столом его ждала вся семья. Отец сидел в черном костюме и при галстуке, мать побывала в парикмахерской. Они справляли свой праздник, салютовали в честь передовых родителей, выпроводивших свое единственное обожаемой чадо на завод.
В зале было душно. Лектор стоял за кафедрой потный и красный. Татьяна Сергеевна глядела на него и переживала: ну зачем так надрывается, бедняга, говорил бы спокойно, всем же слышно. Если б хоть волновался, тогда бы этот крик был понятен, а то ведь просто взвинтил себя, оттого и себе и другим рвет сердце.
Рядом, положив щеку на ладонь, спал технолог Багдасарян. Можно подумать, переутомился толстяк с новым конвейером. Вчера в столовой стоит в очереди с подносом и тоже спит. Конечно, организм устает от такого веса, тянет на покой, но нельзя же распускаться у всех на глазах.
Читать дальше