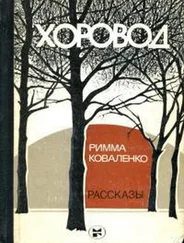Этот груз материнского насилия он сбросил в первые дни войны. Казачий полк снялся по тревоге и ушел на фронт. Где был этот фронт, не знал даже старшина Прокофий Соловьев, которого оставили в части с десятью бойцами. Семьям командиров было выделено два грузовика для эвакуации. Никто не верил, что война надолго, уезжали все налегке, только мать Лаврика взяла с собой два чемодана и узел с постелью. Ехали и не знали, что война, от которой они бежали, поджидала их впереди. Только выехали с проселочной дороги на Могилевское шоссе, как попали в волну беженцев. Навстречу катилась военная машина с ранеными.
— Куда вы?! — крикнул из кузова боец. — Впереди немцы!
Грузовик, тяжело покачиваясь с боку на бок, свернул с шоссе на лесную просеку.
К машине, в которой ехали семьи казаков, подошли старик со старухой.
— Возьмите.
Женщины молчали, все уже понимали, что путь предстоит неблизкий. В кузове было тесно. Вслед за стариком и старухой к машине потянулись и другие беженцы.
Первой выбросила свой чемоданчик за борт машины жена начальника штаба, та самая, что пела в первом ряду. За ней и другие женщины стали выбрасывать чемоданы. Лаврик уставился на мать. Выжидательно смотрели на неё остальные. Но смутить мать было не просто.
— Это мой муж дал машины, — крикнула она, — и вы тут не распоряжайтесь!
Но ее не слушали: поднимали в кузов детей, помогали разместиться незнакомым женщинам и старикам. Два больших чемодана и узел с постелью не тронули, мать молча сидела на узле. Шофер выглянул из кабины, спросил: «Ну, все в порядке?» Но не успела машина тронуться с места, как Лаврик, перебравшись через борт кузова, спрыгнул на дорогу, упал. Не поднимаясь, лежа в пыли, крикнул:
— Я не поеду с ней! Если она такая, я с ней не поеду!
Поднялся и пошел. Пошел назад.
Его догнала и вернула жена командира полка и забрала с собой в кабину. В Быхове, где они ночевали, машины конфисковал комендант города. Вместо них выделил четыре подводы. На них посадили стариков и маленьких детей, до самой Орши Лаврик вместе со взрослыми шел пешком, а уже оттуда до Смоленска ехали поездом.
Война занесла их в Сибирь. Приехали на зиму глядя без денег, без вещей. Мать, совсем недавно сильная и энергичная, за время долгой дороги притихла. Напряженным, хмурым взглядом смотрела перед собой, потом переводила взгляд на сына:
— Что будем делать?
Он не знал, что ответить, и потому сказал:
— Что все, то и мы.
Эвакуированных «разбирали» местные жители.
Лаврик и его мать выбрала шестилетняя девочка Лора в смешной вязаной шапочке с синим шариком. Шарик свисал с макушки на длинном шнурке, мотался и стукал девочку по спине.
— У нас комната без окна, — сказала мать девочки, подойдя к ним, — там полки с книгами и диван. Хорошее электрическое освещение. Мальчик сможет делать уроки в столовой.
Они прожили в этой семье три месяца, в большом доме с длинным столом в столовой и красным роялем в гостиной. Каждый вечер их приглашали к чаю. Мать Лаврика прикалывала к платью круглую брошь в белых пузырьках жемчуга, мокрым полотенцем вытирала сыну лицо, шею и руки, зачесывала ему волосы на косой пробор, и они отправлялись «в гости». Однажды Лаврик услышал, как мать говорила на улице какой-то женщине: «Они, конечно, люди благородные, но мне с ними пытка. Не живу, а по гвоздям хожу. Книги кругом, рояли, а мне воды напиться — проблема, своей кружки нет». Мать уже не заставляла учить его стихотворения, говорила: «Не шныряй по дому, не хватай за столом еду. Не те теперь времена, не за своим столом сидим». А он влюбился в тот дом и в людей, которых там было множество: две бабушки, дед, две тетки и сами хозяева, не считая Лоры и ее маленького брата Ратмира. И еще в этот дом приезжали родственники, приходили знакомые. Звучала музыка.
Семьи фронтовиков были поставлены на особый учет в райисполкоме. Матери дали комнату, из фонда всеобуча Лаврику в школе выдали пальто, валенки и шапку. Он не обзавелся на новом месте друзьями и, когда выпал снег, побежал в обновках в Лорин дом. И когда пришло письмо от отца, тоже побежал к ним, а через полгода, когда пришла похоронка, пошел туда с матерью. Зимой сорок третьего года мать продала круглую брошь — ту, в белых пузырьках жемчуга, единственную драгоценность, единственную память о довоенной жизни. Она всегда носила ее в сумочке, в этой же сумочке отнесла на барахолку. А в начале июня того же года они поехали за город вскапывать две сотки земли под картошку.
Читать дальше