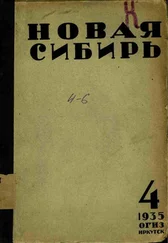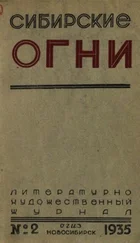Закурил, затянулся махоркой, дунул на лампу и, не раздеваясь, как больной, лег на кровать. Было темно, и ярким, серебряно-синим квадратом смотрело окошко на лунный двор, на калитку.
Опять горели мысли, жгли голову, отгоняли сон.
«Пропал я, — думал он, — и никто не заступится. Никто…»
С такой холодной очевидностью это сделалось ясным, — таким безгранично одиноким и заброшенным он себя ощутил, что стало страшно, как человеку, заблудившемуся в тайге.
С ним-то кто? Кто? Здесь — никого.
Там — в сопках — партизаны. Их травят, как и его. Еще дальше, где-то в фантастическом царстве — устроенные люди. Советская Россия. Как далеко до этого царства!.. Полететь бы… Ведь таких, как он, не один. В десятках городов тысячи людей мечтают и томятся по лучшем мире… Почему нельзя улететь? А здесь, в этом городе, в тюрьме, разве не сидят сейчас люди, не думают, что их завтра, может быть, сегодня поведут на горку?
— Много, — жмурил он глаза, — много нас… Почему же? Нет, — внезапно вскочил, — завтра уйду. По тракту, по снегу — замерзнуть лучше…
Вспомнил приятеля, Ваську Канавина, слесаря, расстрелянного недавно, и повторил:
— Замерзнуть лучше. Возьму в лавке рукавицы, шубу… у хозяйки хлеба. Жалко — катанки худые…
Опять лег, опять свернул папиросу, и рдяный уголь язвил темноту.
Поднялся, одел полушубок, шапку и вышел в сени. Открыл дверь заскрипела. Вольный свет кругом — беги, куда хочешь. Почему стоишь?
И сейчас же у ворот хрустнули шаги.
Синяя тень пала на снег через подворотню.
Архипов скакнул за порог и сунулся за угол.
Калитка визгнула, брякнула кольцом, отворилась. Осиянная блеском луны вынырнула рослая теневая фигура и остановилась в раскрытой калитке.
И уже эта секундная остановка сказала Архипову все, и он, задрожав, прижался к стенке.
А тот, человек или призрак, пошел медленно, осторожно.
Слышно — подходит.
Близко, за углом.
Как часы в комнатушке, стучит под полушубком сердце, только чаще, чаще…
У двери, должно быть, остановился. Слабо пискнула дверь.
Опять молчание.
Косо, безумно, вниз поглядел Архипов. Под ногами куча наколотых дров, тускло светит топор — отдыхает.
Сами потянулись руки, бережно за топорище взяли — выпрямляется Архипов. Топор проснулся — ртуть раскаленную в кровь человеку налил, щеки коснулся, друг холодный…
Идет.
Подходи, подходи!
Спиной к бревнам — дома, стены помогают!
Тень из-за угла лизнула снег и удлиняется. Вот он, черный человек рядом. Повернул затылком, на забор уставился…
Должно быть, раньше высоко Архипов топор поднял, потому что теперь человеку в голову без размаху его всей силой грохнул…
Топорище едва удержал…
Крякнул черный и грузно носом в снег плюхнулся…
Растянулся длинно.
С полдвора отбежал Архипов — оглянулся.
Лежит, только пятками подрыгивает…
Улица — направо и налево. Куда желаешь?
Голоса. Вот рядом, из-за крыльца, подходят. Куда?
Скользнул в крыльцо, в темноту. Нащупал дверь — отворил.
Жилым теплом пахнуло. Ступил.
Знакомый голос из-за перегородки:
— Кто?
Слабо:
— Я…
Щель осветилась, дверца распахнулась — Баландин со свечей. Хмурясь, присматривается. Глаза круглые стали и… палец к губам.
За плечи и в комнатку.
— Молчи!
Понял…
* * *
Тусклый рассвет. Всю ночь не спит Михайловка, последняя деревушка перед Логовским. Чернеют избы и белыми крылами свисают с крыш наносы снега. Из синей морозной мглы рассвета кровавыми глазами смотрят окна сборни, освещенные лучиной. Тревожно надрываются собаки, и дребезжит труба сигнала к сбору.
Изба, где ночевал Орешкин, превратилась в штаб. Исчезли и детишки и хозяйка, исчез уют жилого дома. Ежеминутно хлопают дверьми и бегают солдаты в желтых полушубках.
Одетый, в полной амуниции сидит Орешкин за столом и допивает чай.
Он зол и раздражен.
Болит с похмелья голова, всю ночь его кусали блохи и клопы, а староста не выполнил наряда, и вот уж семь часов, а нужных лошадей все нет. Он рано утром вызвал мужика, за деланным испугом, наверное, скрывающего большевистскую личину, и заявил ему, что если в 8 часов не будут готовы кони, он выпорет его. Из донесения знал, что старосту уже пороли.
В комнату вошел озябший прапорщик.
— А лошадей все нет, — пожаловался он.
Орешкин холодно и долго посмотрел…
— Н-ну, хорошо… — и, зловеще: — Идемте. Так? Мать вашу…
Прапорщик почти бежал за ним, стараясь поспевать.
Читать дальше